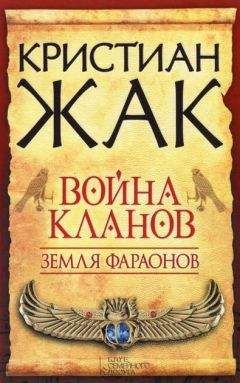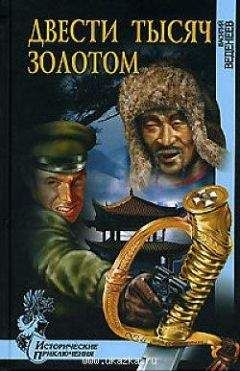Он замолчал, и из горла его вырвался хрип.
– Гармахис, – выдохнул он. – Ты здесь?
– Да, отец.
– Гармахис, искупи свою вину!.. Слышишь? Искупи… Месть еще возможна… Ты еще можешь заслужить прощение. У меня есть золото… Я спрятал его… Атуа знает где… Атуа покажет… Как же мне больно! Прощай!
По его телу пробежала дрожь, и в моих руках он умер.
То был последний раз, когда мы с отцом, принцем Аменемхетом, встретились во плоти и в последний раз расстались.
Глава II
Об отчаянии Гармахиса, о том, как он в страхе взывал к Исиде, об обещании Исиды, о встрече с Атуа и о рассказе Атуа
Я лег на пол и смотрел на бездыханное тело отца, который дождался меня и в последние мгновения жизни проклял, – меня, и без того проклятого и отверженного, – пока вокруг нас не сгустилась темнота, и мы с мертвым остались наедине в черном безмолвии. О, можно ли передать охватившее меня в тот час безнадежное отчаяние? Воображение не в силах представить его, словами его не описать. Снова в своем горе, в неизмеримой бездне своего падения я подумал о смерти. За поясом у меня был нож, которым я мог перерезать нить скорби и освободить свой дух. Освободить? Освободить, чтобы он летел принять великую месть великих богов! Увы! Увы, я не осмелился умереть. Земная юдоль с ее тяготами и горестями показалась мне милее скорой встречи с теми невообразимыми ужасами, которые витают в мрачном Аменти в ожидании пришествия падших.
Скрючившись на полу, я плакал жгучими слезами, думая о погибшей жизни, о потерянном прошлом, которого не изменить. Плакал, пока у меня не иссякли слезы, но ответ так и не пришел из этой тишины, которая не отозвалась на мое горе, я слышал лишь отголоски собственных рыданий. Надежда покинула меня. Моя душа блуждала во мраке более непроницаемом, чем окружающая меня тьма. Боги, которых я предал, оставили меня, для людей я был изгоем. Ужас охватил меня в этом пустынном храме, когда я почувствовал, что остался один на один с величественной смертью. Скорее покинуть это место! Я встал, чтобы бежать. Но как бежать в такой темноте? Я сразу же заблужусь в этих галереях, среди колонн. Да и куда бежать, если мне негде преклонить голову? Я, скорчившись, упал на колени. Меня охватил такой страх, что мой лоб покрылся холодным потом, а сердце сжалось. И тогда в отчаянии я стал громко молиться Исиде, к которой не осмеливался обращаться уже много дней.
– О Исида! Священная Мать! – воскликнул я. – Отврати на краткий миг свой гнев и в своем бесконечном милосердии, о всемилостивая, услышь страдания того, кто некогда был твоим слугой и сыном, но своими злодеяниями утратил твою любовь. О великая царица, ты, пребывающая во всем, познавшая суть всех вещей и всепрощающая, разделяющая всякое горе, яви свою милость, возложи ее на чашу весов и уравновесь мое зло. Посмотри на мое горе и измерь его. Увидь глубину моего покаяния, исчисли мою скорбь, изливающуюся слезами из моего сердца. О Божественная, чей лик мне было позволено узреть, во имя той священной встречи я взываю к тебе! Я взываю к тебе великим тайным Словом, которое ты произнесла. Яви свою милость, снизойди ко мне в своем милосердии и спаси меня. Или яви свой гнев и покончи с теми мучениями, которые я более не в силах терпеть.
Поднявшись с колен, я воздел к небу руки и осмелился выкрикнуть великое слово страха, произносить которое дозволено лишь в самый тяжкий час, или ты умрешь.
Ответ пришел быстро. Богиня отозвалась. В тишине я услышал звон систра – предвестие явления Божественной. Затем в дальнем углу появилось некое подобие месяца, как бы его золотой рог и внутри рога – небольшое темное облако, в котором извивался, то высовывая голову, то скрываясь, огненный змей.
В присутствии богини ноги мои подкосились, и я упал перед ней на колени.
Потом из облака раздался тихий нежный голос:
– Гармахис, ты был моим слугой и моим сыном. Я услышала твою молитву и заклинание, которое ты осмелился произнести, заклинание, которое на устах того, с кем я беседовала, способно вызвать меня из небесного мира. Но более мы не будем едины в божественной любви, ибо ты по своей воле отвернулся от меня. Вот почему после долгого молчания я пришла к тебе, Гармахис, в гневе и, быть может, с жаждой мести, ибо просто так Исида не может быть вызвана из своей высокой божественной обители.
– Обрушь на меня свой гнев, богиня! – ответил я. – Покарай меня и передай тем, кто исполнит твою месть, ибо более я не в силах нести тяжесть содеянного мною зла и моего горя!
– Если ты не в силах нести свою ношу здесь, на земле, – последовал печальный ответ, – как ты будешь нести еще более тяжкую ношу, которая будет возложена на тебя там, если ты, покрытый позором, не очистившись и не искупив вину, придешь в царство Смерти, которая есть Жизнь, полная бесконечных перемен? Нет, Гармахис, я не покараю тебя, ибо не так велик мой гнев за то, что ты осмелился произнести призывающее меня страшное заклинание. Знай, Гармахис, сама я не возвеличиваю и не караю, ибо я всего лишь исполнительница повелений. Я награждаю достойного и наказываю недостойного по велению Незримого, и его решения я исполняю. Если я одарю, я одарю молча, без похвалы, если поражу, сделаю это тоже молча, без укора. Поэтому я не утяжелю твою ношу гневными словами, хотя из-за тебя случилось так, что скоро от Исиды, Небесной Матери, в Египте останется лишь воспоминание. Ты совершил зло, и кара твоя, о чем я предупреждала тебя, будет тяжелой и здесь, в этой земной жизни, и в моем царстве Аменти. Но я также говорила тебе, что существует путь к искуплению, путь раскаяния. Ты уже идешь по нему и должен будешь пройти этой дорогой со смиренным сердцем, вкушая горький хлеб раскаяния, пока не истечет срок, отмеренный тебе судьбой.
– Значит, у меня нет надежды, о богиня?
– Что сделано, то сделано, Гармахис, и ничего теперь не изменить. Кемет больше никогда не будет знать свободы, его храмы разрушатся и их поглотит песок пустыни. Чужие народы будут хозяйничать в нем, в тени его пирамид будут появляться и увядать новые религии, ибо у каждого мира, у каждого народа и у каждой эпохи есть свои собственные боги. Вот какое дерево вырастет из семени зла, которое посеял ты, Гармахис, и те, кто тебя искушал!
– Увы! Я погиб! – воскликнул я.
– Да, ты погиб. И все же тебе будет дано утешение: ты погубишь ту, что погубила тебя, ибо такова цель моей справедливости. Когда тебе будет дан знак, брось все, поднимись, иди к Клеопатре и, повинуясь указаниям, которые я вложу в твое сердце, сверши божественную месть. А теперь слово о тебе, Гармахис: ты отвернулся от меня, и ты больше не увидишь меня, как тогда в Аменти, пока в веках последний росток посеянного тобой зла не исчезнет с лица земли. Но сквозь всю эту нескончаемую череду тысячелетий помни: Божественная Любовь вечна, ее нельзя уничтожить, даже если отрицать ее, хотя порой она улетает в недосягаемые дали. Раскайся, мой сын, раскайся и исправь, искупи совершенное тобой зло, пока еще не поздно, чтобы в скрытом мраком конце всех времен вновь воссоединиться со мной. И все же, Гармахис, хоть ты никогда не будешь видеть меня, даже когда само имя, под которым ты знаешь меня, станет загадкой для тех, кто будет жить после тебя, – все равно я, живущая вечно, видевшая, как вселенные рождались, цвели и умирали, обращаемые в ничто дыханием Времени, чтобы снова родиться и пройти свой путь в лабиринте пространства, я все же всегда буду сопровождать тебя. Куда бы ты ни пошел, где бы ты ни был, в каком бы обличье ты ни жил, я буду рядом и буду охранять тебя! На самой далекой звезде и в глубинах Аменти, в жизни и в смерти, во снах и наяву, в воспоминаниях и в забытьи, в мытарствах потусторонней жизни и в перевоплощениях твоего духа, если ты искупишь зло и не забудешь меня снова, я буду с тобой, я буду ждать часа твоего искупления. Ибо такова природа Божественной Любви, которая осеняет того, кто вкусил ее божественной сущности и был прикован к ней священными узами. Суди же сам, Гармахис, стоило ли отворачиваться от нее ради прихоти земной женщины. И отныне больше не смей произносить священное Слово власти, пока это все не свершится. Я запрещаю тебе. Гармахис, в этой жизни ты больше меня не увидишь. Прощай!