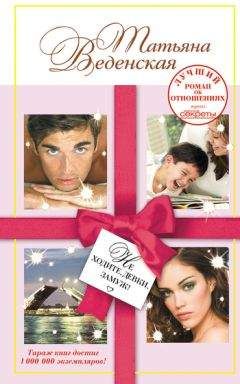Истинную правду выговаривала сейчас гордая и самолюбивая Дарья Устрялова. Она и сама не заметила, как отпало в последнее время ее горячее желание властвовать над Гриней, как отлетело оно и растворилось, будто одинокий лист, гонимый порывом ветра: сорвался, улетел в огромное поле, и следа от него не осталось. Ничего сейчас не желала, кроме одного — быть рядом с ним, видеть его, слышать. И даже колючий взгляд из-под насупленных бровей, которым смотрел сейчас на нее Гриня, не огорчал, а, наоборот, был люб и приятен.
— Куда они поехали, знаешь?
— Знаю, — вздохнула Дарья, — я ведь вначале, Гриня, честно тебе признаюсь, гадость задумала: пока не поклянешься, что сватов на следующей неделе пришлешь, я тебе про деда ни одного слова не скажу. А теперь… Теперь все расскажу, пойдем в избушку, замерзла, прямо дрожу вся…
Яркие, словно только что накрашенные, черные брови смыкались над переносицей, образуя жесткую, прямую морщинку, и большие темные глаза замирали неподвижно, казалось, что их пронизывает мгновенный холод и они, так же мгновенно, становятся ледяными. Три года назад Целиковский впервые почувствовал на себе этот неподвижный взгляд, испугавший его до озноба, и до сих пор не мог избавиться от неосознанного страха перед ним.
Тогда проводили экс в доме богатого московского купца Балуева. И шло все как по нотам: самих хозяев дома не было, только прислуга — кухарка и горничная; потренькали в звонок, сказали, что принесли телеграмму для господина Балуева, затем ворвались в дом, насмерть перепуганную прислугу затолкали в боковую комнатку и быстро, сноровисто принялись за дело, скидывая без разбора в кожаные мешки золотые цепочки, кольца, украшения, вытряхивали из хозяйского стола деньги и в суетливой спешке выпустили на какой-то момент из виду горничную и кухарку. А они умудрились открыть окно и уже раздвигали створки — вот сейчас высунутся и заорут, призывая на помощь…
Целиковский, пробегая мимо, увидел это, кинулся в комнатку, откинул их от окна и замер, уронив кожаный мешок на пол. Горничная, совсем молоденькая девчушка, ползла к нему на коленях, безмолвно тянула тонкие руки, моля о пощаде, и юное лицо ее, даже перекошенное страхом, мокрое от слез, было прекрасным.
— Уходим! — подала команду Кармен. — Что ты стоишь?
На бегу заглянула в комнатку, все поняла, кинулась кошкой к окну, захлопнула створки и снова скомандовала:
— Пристрели их!
Целиковский, сжимая потными пальцами револьвер, не мог поднять руку. Не мог — и все! Будто висела на руке двухпудовая гиря.
Вот тогда Кармен и свела брови над переносицей, взгляд ее оледенел, и Целиковский понял: если он сейчас не выполнит приказа, то пристрелят его самого. Кармен и пристрелит, не задумываясь и спокойно.
Приказ он выполнил.
После экса, когда уже надежно укрылись на явочной квартире и перевели дух, Кармен, закурив папиросу и пуская ровные колечки в потолок, сказала, как бы между прочим:
— В следующий раз, Целиковский, я тебя на тот свет отправлю, как литерный поезд, без задержки.
И очаровательно улыбнулась ему, как она умела это делать.
Авторитет ее в организации эсеров-максималистов был непререкаемым. Она могла так легко, не задумываясь, рисковать своей и чужой жизнью, что даже видавшие виды члены боевки приходили порой в полное изумление.
Затея с поездкой предсказателя в Сибирь полностью принадлежала Кармен. Она горячо, неистово, как все делала, прониклась этой идеей, и остановить ее было невозможно.
И вот сейчас, сидя у маленького костерка, чуть повернув голову, Кармен смотрела на Целиковского ледяным, остановившимся взглядом, а рука ее привычно скользила под полу теплой шубки, где в специально пришитом кармане всегда лежал заряженный револьвер. И все знали, что стреляет вспыльчивая женщина без предупреждений и без промаха.
— Хорошо, я возвращаюсь в Никольск, — Целиковский переломил ветку, которую крутил в руках, и бросил тонкие половинки в костер, — мне нужны помощники.
— Один справишься, без помощников, — рука Кармен выскользнула из-под шубки — пустая. — И запомни — Забелина, если он живой, оставлять здесь нельзя. Вообще следов оставлять нельзя.
Целиковский смотрел на пламя костра и ясно осознавал, что из-под жесткой воли этой женщины ему не вырваться. И как бы в душе он ни топорщился и ни ершился, все равно отправится в Никольск и будет искать пропавшего Забелина, чтобы выручить его, если удастся, а если не удастся… Дальше Целиковский старался не думать.
Он поднялся, отошел от костра; разминая ноги, обогнул небольшую ложбинку и поднялся наверх, на каменный выступ, успев подумать, что здесь надо обязательно выставить часового — видно все как на ладони: шесть подвод, поставленных неровным квадратом, посередине костер, выпряженные лошади кормились здесь же, рядом с возами; на одном из возов сидел деревенский старик со связанными руками, рядом с ним — Феодосий.
«Черт возьми, столько сил потратили из-за одного сумасшедшего!» — Целиковский не удержался и грязно выругался: он с самого начала скептически относился и к предсказателю, и к его пророчествам, а то, что эти пророчества сбываются, считал элементарным совпадением и никак не мог понять Кармен, которая прямо-таки мертвой хваткой вцепилась в Феодосия, а когда они с Забелиным потеряли его на постоялом дворе, она готова была живьем их съесть, потому и закатывала скандалы, упрекая в полной неспособности к серьезному делу и с презрением выкрикивая свое любимое выражение: «Вам только семечками торговать на базаре!»
След предсказателя отыскали в последний момент и совершенно неожиданно: сначала Забелин, еще до своего исчезновения, установил, что Варвара Нагорная служит учительницей в селе Покровском, вспомнили, что Феодосий на постоялом дворе тоже говорил о Покровском и даже говорил, что обязательно вспомнит дорогу. Вот сюда и направились.
А здесь, уже в Покровке, представившись обычными обозниками, выяснив, что Варвара Нагорная исчезла, и выяснив, что уже долгое время никто не не видел деревенскогого старосты Черепанова, узнали про избушку на дальних покосах и незамедлительно отправились ее искать.
И нашли.
Теперь оставалась лишь самая малость — выбраться из бора и вывезти живым Феодосия. Не до жиру — быть бы живу. И хотя сам Феодосий твердил поначалу об иконе, его уже не слушали, ясно понимая, что любая задержка может оказаться роковой. Да и сам Феодосий замолчал внезапно, об иконе не вспоминал и лишь счастливо шептал время от времени, блаженно прикрывая глаза: