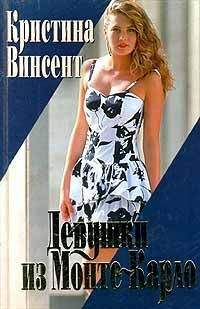Я уже сам не понимал, чего хочу. С одной стороны, я стремился остаться в этой обволакивающей темноте, чтобы ничего не чувствовать, с другой – я знал, что тут мне никогда не удастся увидеть Машу, и очередная мысль о ней набегающей волной вновь выхватывала меня и выбрасывала на берег.
Вот только с каждым разом она проделывала это все более грубо и бесцеремонно, уже не вынося, а вышвыривая мое тело и вдобавок еще и приподнимая его, чтобы я грянулся о камни со всего маху, так что от боли перехватывало дыхание.
Я открывал глаза и с разочарованием видел, что княжна на этом негостеприимном для меня берегу так и не появилась, а мне оставалась лишь боль, тошнота и головокружение, по бокам два угрюмых всадника, а наверху – облачная круговерть.
И тогда следовал очередной уход туда, в темноту. С каждым разом я погружался туда все глубже и глубже, чувствуя, что приближаюсь к тому месту, где нет глупых волн, норовящих выкинуть меня на берег, нет боли, и ничего другого тоже нет.
Я бы этому особо и не противился – устал терпеть. Но мысль о том, что я больше никогда не увижу Машу – мою лучезарную княжну с синими глазами, напоминающими утреннее бездонное небо, не увижу ее длиннющих ресниц, чьи стрелы гораздо раньше, чем татарская вошли мне в грудь, ее стыдливого румянца, будто ясная зорька вспыхивающего на нежных бархатных щечках, вообще ничего, – продолжала подхлестывать, заставляя барахтаться, пускай и без особого эффекта, и густой мрак вновь светлел, отдавая меня во власть очередной волны.
Я уже не открывал глаз, когда оказывался на берегу, только вслушивался в дробный топот копыт. И последний разговор моих сопровождающих я тоже слушал с закрытыми глазами.
– А слыхал, что мужик сказывал? Ведьма она.
– А может, и нет. Токмо до Москвы мы его все одно не довезем. Пока приедем, он уже дюжину раз богу душу отдаст.
– То так. Да и жив ли там ныне хоть один травник – бог весть.
– Потому и сказываю – тута его надо оставить.
– У ведьмы?! Вовсе сдурел!
– А мне, Пантелеймон, все одно, лишь бы фрязина на ноги поставила.
– Дык наворожит чего-нито. Али сожреть!
– Чичас! Ты ишшо князя мово не знаешь – им любая баба-яга подавится. Он у меня такой бедовый – страсть…
И вновь темнота. На этот раз меня поднесло к самому краю. Черта была совсем рядом. Шагни за нее, и все – ни боли, ни страданий. Это радовало, и я бы шагнул, тем более все зависело от меня и только от меня одного. Но там не было и воспоминаний. Никаких. Это настораживало.
И еще одно я знал совершенно точно, хотя не понимал, откуда это знание. Даже если я каким-то чудом вспомню Машу, то во мне ничего не всколыхнется и не пошевелится, ибо там, за гранью, не было и любви. И это меня останавливало, не давая переступить эту черту, потому что увидеть ее образ и равнодушно от него отвернуться граничило с изменой. В первую очередь изменой самому себе.
Будь она и впрямь замужем, да еще за каким-нибудь красавцем – мне было бы легче. И совсем легко, знай я, что она счастлива. Пускай не так, как со мной, потому что так ее не будет любить никто – попросту не сможет, но все равно счастлива. Тогда я бы сделал этот шаг, ибо он назывался иначе – уход. Но она нуждалась во мне, и бросить ее я не мог. Это совсем иное. Это уже предательство. И я отстранялся от опасного рубежа как только мог, но меня неумолимо тянуло к нему.
А потом меня начали теснить от рокового места. Между мной и гранью появилось нечто твердое, но в то же время упругое. Всякий раз, когда меня подтаскивало к черте, я доходил до этого нечто, ударялся в него, и оно пружинно отталкивало меня обратно, причем все дальше и дальше. Когда я выбрался к тому месту, где густой мрак уже уступил свое место призрачным сумеркам, то почувствовал лежащее рядом со мной женское тело, жаркое, как июльский полдень.
Я недоверчиво провел по нему ладонью, не понимая, как оно тут оказалось, – по тяжелым литым бедрам, по крепкой упругой груди, по изгибу стана, скользнул к мягкому нежному животу и… испугался, на мгновение решив, что это Маша. Я настолько испугался, что это она, которую очень хотел бы увидеть, но только не в этом таинственном месте, что впервые за долгое время открыл глаза и лишь тогда с облегчением вздохнул – это была совсем другая, похожая лишь фигурой, да и то предположительно. Зато на лицо никакого сходства, хотя – странное дело – если бы я взялся описывать внешность лежащей со мной рядом девушки, то использовал бы практически те же слова, что и при описании Маши. Личико кругловатое, милое, щеки нежные, лоб высокий, глаза синие, волосы светло-русые. Словом, точь-в-точь.
Разве что скулы были очерчены более жестко и непримиримо, да и губы я описал бы несколько иначе. У Маши только нижняя была сочно-пухлой, у этой обе. И цвет отличался. Даже в полумраке было видно, что они у нее не вишневые, а гораздо темнее, цветом скорее неприятно напоминают запекшуюся кровь. Зато если брать в целом – не то, и все. Ну совершенно никакого сходства.
– Очнулся наконец, – неспешно произнесла девушка и полюбопытствовала: – А ты как мое имечко прознал? – И, не дожидаясь ответа, протянула, кокетливо вытягивая губы: – У-у-у, проказник. Не успел глаз открыть, а туда же, шупать учал. Ишь какой проворный. – Она медленно потянулась, изогнув свое статное тело в похотливой истоме, и лениво спросила, явно напрашиваясь на утвердительный ответ: – Так что, полежать ишшо с тобой али будя? Как сам-то хошь?
Я не сказал «да» и не сказал «нет». Радость уступила место разочарованию, и мне было все равно. Вместо ответа я закрыл глаза, так и не произнеся ни слова.
– Да ладно уж, останусь, – услышал я несколько раздосадованный голос, и нежная женская ладонь мягко легла мне на грудь.
Дальше из опасной темноты, точнее, уже из сумерек, меня тащили со скрипом. Да-да, с самым настоящим скрипом. Потом только, уже окончательно придя в себя, я обнаружил, что на самом деле это голос – старческий и чуть глуховатый. Просто он скрипучий, напоминающий чем-то голос князя Долгорукого, отца Маши. Только у Андрея Тимофеевича он становился таким, лишь когда тот злился, а у этой старушки он оставался неизменным в любой ситуации, независимо от настроения.
Скорее всего, когда-то в молодости он был совсем иным, хотя, глядя на нее, возникали большие сомнения, а была ли она вообще когда-то молодой, уж очень глубоко и давно погрузилась она в старость. Наверное, была, потому что даже сейчас, невзирая на лета, она оставалась такой же шустрой и проворной, как много-много лет назад. Сколько именно – пятьдесят, шестьдесят, семьдесят – я бы не ответил, да оно и неважно.
Теперь я понимал, почему ее считали связанной с нечистой силой.
Во-первых, классическая, если можно так выразиться, внешность. Торчащие во все стороны нечесаные космы, впалые щеки коричневого цвета, словно кожура хорошо пропеченного яблока, с таким же обилием мелких-мелких морщин, крючковатый нос, выдвинутый как копье вперед подбородок и два устрашающих клыка, невесть каким образом уцелевшие в ее беззубом рту.