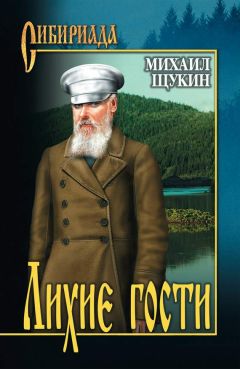— Покормят тебя, в баню сводят, поспи, а после решать станем.
— Погоди, — остановил его Данила, — там, на улице, не стал говорить… Никифор незадолго до смерти наказал мне… Если Евлампий не поверит, скажи Мирону такие слова: за Синим камнем ласточка спит, не выходили мы ее, а про кота никому не говорили…
Мирон постоял, покачивая головой, и вышел.
Слова, сказанные Данилой, прозвучали для него столь неожиданно, что он растерялся и не знал, как ответить на них. Заключалась в них давняя детская тайна двух неразлучных дружков. Увидели они, как добрался до ласточкиного гнезда серый кот и как успел он поранить ласточку, сидевшую на яйцах. Она вырвалась, упала вниз и отчаянно трепыхалась одним крылом, пытаясь взлететь. Ребятки подобрали птичку, поили ее с рук, кормили, но ласточка умерла, и они похоронили ее за Синим камнем, даже крестик из двух прутиков на маленькой могилке поставили. А полосатого кота подкараулили и забили палками. Сотворив такое жестокое дело, испугались: отношение к кошкам в деревне было любовное. Собак староверы не держали, чтобы они своим лаем потаенное селение не обозначили, а вот кошек холили и берегли. Родительское наказание, если дознаются, неминуемо. И решили ребятки молчать, никому не признаваться. После, когда уже выросли, пошучивали между собой: а вот пойду к Евлампию да расскажу, как ты кота замучил, будет тебе на орехи…
Никто про это не мог знать, кроме них двоих. Значит, сигнал посылал Никифор: не обманывает этот парень, чужой он среди лихих людей, подневольный.
Довериться?
Весь остаток дня, до самого вечера, терзался Мирон, не зная, какое принять решение. А вечером снова сидел на лавке рядом с Данилой, и тот, помывшийся в бане, поевший и поспавший, глядел веселее и обстоятельно рассказывал о лагере варнаков, о порядках, какие там существуют, о том, какое условие поставил перед ним Цезарь, и что ждут его, в одном дневном переходе от деревни, Ванька Петля и Колун. Все рассказывал, ничего не утаивал.
И Мирон ему поверил.
Заодно укрепился в твердом своем желании выполнить наказ Евлампия. Прав был старец: с лихими людьми в долине мирного житья не будет. Придется кому-то уходить. А деревня со всем хозяйством, со стариками и малыми ребятишками, с домашней живностью — это тебе не шапка, которую нахлобучил на горькую голову и ступай, отыскивая новое потаенное место — голое, где все придется начинать сызнова. Да и мысли такой не допускал Мирон, чтобы многолетние труды пустить прахом по ветру, подчиняясь злой воле незваных пришельцев.
Долго сидели они с Данилой в пустой избе, и только рыжий кот, зевая и потягиваясь, слышал их речи.
Рано утром по торному следу Данила отправился в обратный путь.
Ванька Петля и Колун встретили его с нескрываемым удивлением: не ожидали, что обернется так скоро. Сразу приступили с расспросами, но Данила, угрюмо насупившись, отшил их:
— Пока Цезарю не доложусь, слова никому не скажу. А уж он волен будет — пересказывать вам или нет.
…В резном кресле Цезарь восседал в обличии генерала. Постукивал золочеными ножнами сабли по носку сапога, улыбался, и усики его, закрученные на концах колесиками, шевелились. За левым плечом у него, опираясь рукой о спинку кресла, стоял Бориска, распустив толстые губы, и сверлил Данилу маленькими, настороженными глазками. Время было позднее, ночь уже на дворе стояла, и в высоких подсвечниках горели свечи, ярко освещая просторную комнату и отражаясь шевелящимися огоньками в широких зеркалах.
— Значит, говоришь, преставился Евлампий… Царство ему Небесное, вредный старичок был, — Бориска мелко, словно украдкой, перекрестился, — а новый их старец согласный отсюда убраться… И на какой срок наметил он переселение своих народов?
— Просил так передать: срок ему требуется, чтобы сложиться со скарбом — неделю-другую, не меньше. Пойдут обозом, через проход; пока снег совсем не растаял, хотят на санях проскочить. Еще просил препятствий не чинить, когда они двигаться станут. Избы свои не тронут и рушить не будут.
— Разумно, — Цезарь отставил саблю и покусал на оттопыренном мизинце ноготь, — разумно. Если ты верно сказал и не наврал мне, то я тебя отпущу. Как староверы уйдут отсюда, сразу и отпущу. А теперь ступай на место. Бориска, скажи, чтобы браслеты больше не надевали на него: заслужил. Ступай, ступай, чего встал, как пень!
Понурив голову, Данила вышел. На крыльце замешкался, вытирая со лба холодный пот, а затем медленно побрел в свою избушку, где все еще властвовал невыветрившийся трупный запах. Следом за ним шел и ругался, неизвестно по какой причине, Ванька Петля. Закрыв с наружной стороны дверь избушки на засов, он еще раз, с коленцами и переборами, выругался и утихомирился. Только хрустящие шаги донеслись, но и они скоро стихли.
Под толстыми половицами шебаршали, попискивали мыши. Данила долго не засыпал, слушая этот шумок, и думал лишь об одном: прав он оказался, когда не поверил Цезарю, что тот выпустит его отсюда живым.
Нет, не выпустит.
В кухне было светло, как днем. Горели сразу три лампы. Екимыч, удобно устроившись возле одной из них, держал перед собой новую, еще не растрепанную книжку и громко, придыхая от переживания, читал:
— Банка такая уютненькая, красивенькая, даже показалась мне маловатою, однако делать было нечего, как ни мала, да, может быть, пользительна, и я с нетерпением вскрыл банку. О, ужас наших дней, что я в ней увидел!!! В банке сидел вместо помады черт!
Анисья и Апросинья охали, вздрагивали полными телесами, испуганно крестились, словно хвостатый и впрямь перед ними вылупился. Они давно бы уже убрались отсюда со страху, да побаивались Екимыча: он и осерчать мог, потому как не любил, чтобы нарушали его чтение хотя бы и малым движением. Коля-милый старательно раскладывал пасьянс, вытягивал губы трубочкой, покачивал головой, и было непонятно: то ли удивляется он проделкам черта, то ли досадует, что пасьянс не сходится.
Кухня была прибрана, чисто вымыта и жарко натоплена. За окнами буйствовал весенний ветер, свистел в голых ветках старого тополя, раскачивал их, и они протяжно, глухо скребли по крыше.
— Я сперва думал — мышь, — продолжал читать Екимыч, — схватил за хвост, тащу, знаете, оттуда… глядь — черт! Даже оторопь взяла, да и досада, на первых порах, что вместо помады за полтинник черта приобрел. Которые путаются и так по свету во множестве, по сказаниям старух — задаром в услуги навязываются.
Аксинья и Апросинья заохали громче и стали чаще креститься. Екимыч оторвался от книги, стегнул их суровым взглядом, и они замерли. Даже телесами перестали колыхаться.