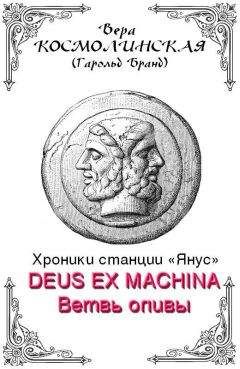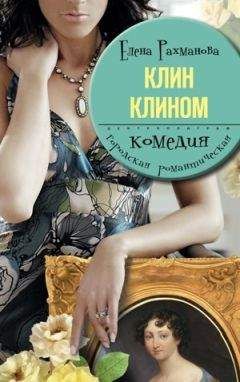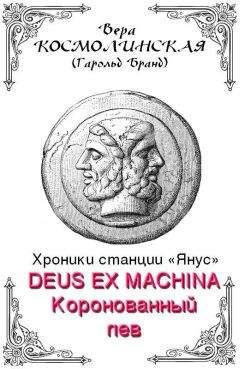Я сделал указующий жест вперед, показывая, где именно им следует расступиться, и очень дисциплинированно, не толкаясь, хранители в этом месте разошлись назад и в стороны, образов аккуратный разрыв в «живой изгороди», его края, изогнувшись, выстроились вдоль дороги.
— Ну же, — негромко подбодрил наших спутников Фонтаж, — вот вам проход через Красное море!
— И что же, каждый так может? — жадно прошептал Шешон.
— Нет, — сухо и коротко обронил Фонтаж.
Диковинной бредовой процессией мы рассекали ночь, торжественно двигаясь к воротам, за нами стелился длинный благоговейно-молчаливый человеческий шлейф. Молчали все, и мы, и хранители, и оторопело-притаившийся город, который мы оставляли в шатком равновесии.
У самых ворот нас ждал еще один небольшой отряд. Проявивший поначалу признаки тревоги, тут же сменившиеся узнаванием и успокоением. Прошелестела еще одна волна тихого журчания, и ворота открыли прежде, чем был отдан непосредственный приказ. Вышедший из караульного помещения хранитель застыл совсем рядом, почти на дороге, зачарованно, восхищенно окаменевший. Я бросил на него рассеянный взгляд, убедившись, что он стоит недостаточно близко, чтобы кто-то на него наткнулся, другой и вдруг остановил коня, приглядевшись получше.
— Сержант Оноре Дюпре?..
— Да, монсеньор! — откликнулся он звонко, бесстрастно и четко как болванчик.
Последний раз я видел его в «Пулярке», где он опознал убитого Моревеля, и откуда тогда так быстро испарился Жиро, ехавший теперь с нами в одной команде. Я невольно начал с беспокойством пристальней вглядываться в других хранителей поблизости. Беспокойство было вызвано предчувствием — ассоциацией, смутным, еще неотчетливым узнаванием не только Дюпре. Вот эта фигура, прямо за ним — слишком знакомо грузная. Тоже из «Пулярки» — да еще как из «Пулярки»! Ее бедный хозяин мэтр Гастон — в кирасе и в блестящей каске, сползающей ему на лоб. Неподалеку женщина, высокая, крепкая, в чьей-то чужой плотной куртке с металлическими бляхами, с алебардой в руке и застывшим, но сияющим взором. Вылитая валькирия — дочь Гастона Дениза. Вся эта безликая масса вокруг стала слишком быстро обретать лица… Еще один щуплый хранитель рядом — муж Денизы.
— Нам надо ехать, ехать!.. Почему мы остановились? — панически, но тихо закудахтал Шешон.
— Не знаю, — так же тихо отозвался Фонтаж.
— Мы знаем этих людей, — полушепотом пояснил Мишель.
— Ну и что?!..
— Это хорошие люди…
— Были!.. Они одержимые!..
— Тсс! — неожиданно грозно прошипел Мишель. Насчет одержимых стоило бы попридержать язык даже в присутствии одного Жиро.
— Ты поедешь с нами, — велел я Дюпре. — Бонифас Гастон, ты тоже. Дениза, и ты, и твой муж.
По толпе прокатилось восторженное волнение — кто-то из них оказался избранным, чтобы следовать со мной — это ли не чудо?!
— Что он делает?.. — сдавленно раздалось сзади.
— Если уж кого-то брать, так не только вас, — явно веселясь, заметил Фонтаж.
— А он знает, что делает?
— Это вы сказали, что знает, когда набились к нам в компанию. Мы предупреждали, что все гладко не будет…
— А у них есть лошади?.. — с совершенно прозаическим беспокойством поинтересовался Шешон. — Они нас не слишком задержат?
Лошади конечно же нашлись, их быстро подвели будто ниоткуда, по волшебству — на самом деле из конюшни у караульного помещения, где им всегда следовало находиться. Беспрекословность и исполнительность безусловно радовали.
Пришла пора прощаться. Я пропустил всех своих спутников вперед и развернулся к тихо шепчущейся толпе, полной сияющих глаз.
— Будьте благословенны! — пожелал я от души и мой голос почти сорвался. — Закройте ворота. И храните мир в этом городе!..
Они сделали так, как я им велел. Врата закрылись и мы оказались «во тьме внешней». Начинающей бледнеть от подступающего рассвета.
— Ну и банда… — посмеиваясь проговорил Фонтаж, выразительно оглядевшись, когда я присоединился к застывшему неподалеку отряду. — Но пожалуй, мне нравится это безумие!
— Пожалуй, мне тоже. Ну, с богом! Что будет, то будет!
Пока еще не окончательно рассвело, мы несколько раз сменили дорогу, на всякий случай, хотя все, что нам могло помочь и помогало — это везение. Никакого преследования не было в помине. И в утреннем тумане, пробираясь окольными тропами с очень разношерстной компанией, в которой толком не о чем было друг с другом говорить, оставалось лишь напевать под нос песенку о последней крысе в легендарном городе Гамельне — навеянной недавней беседой о вере и безверии, а не тем, что мы все же куда-то упорно двигались. В конце концов, когда-то кем-то давным-давно было сказано: «движенья нет». Всё — смотря в каком смысле!..
Пока я не знаю, под чью я дудку пляшу.
Но пусть Крысолов уходит, сам по себе,
Он, верно, хорош и чудесен, я верю судьбе,
Я верю обоим — и никуда не ухожу.
Пусть где-то моря и ручьи текут молоком,
Пусть где-то как мед сладки и мягки берега,
И сахарной пудрой лежат на вершинах снега,
А с неба шампанское льется искристым дождем,
Возможно, но чем заслужили мы сказочный рай?
Хотя — ну конечно — мы созданы все для него!
Он ждет нас, обещанный, норы нам бросить не жаль,
Быть может, не жаль нам и вовсе совсем ничего.
Но если нет смысла во всем, что мы бросили здесь,
Какая забота, в какие нам игры играть?
Какая забота, в какие нам волны нырять?
В каких это реках водилась молочная взвесь?
А кто доиграет вот эту простую игру?
Кто будет с вершины собора смотреть на закат?
И может, увидит внизу распахнувшийся ад,
Сквозь сизую, плотную, дымную пелену?..
Пока я не знаю, под чью я дудку пляшу.
Но пусть Крысолов уходит, сам по себе.
Он, верно, хорош и чудесен, все верят судьбе.
Я тоже, возможно — но никуда не ухожу…
Когда две блестящих пуговки вынырнули из-под меховой опушки в первый раз, мне показалось, что у меня галлюцинации. Собачка вела себя так скромно все время, пока мы выбирались из города, что я полагал, что ее не взяли с собой. Но теперь, по пути, было даже забавно на нее отвлечься, тем более, что она уже доказала, что может не доставлять хлопот. Теперь, когда мы были уже не в Труа, дрожать перестал не только господин Шешон, дичливо поглядывавший на монументальное семейство Гастонов, но и его любимица, увлеченно созерцающая дорогу и потявкивающая иногда, для разнообразия, на шуршащих в придорожных зарослях мышей.