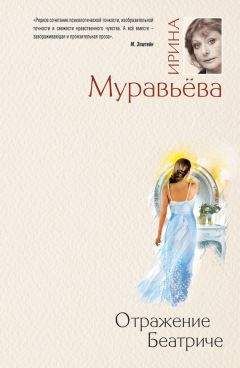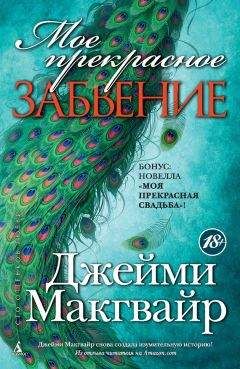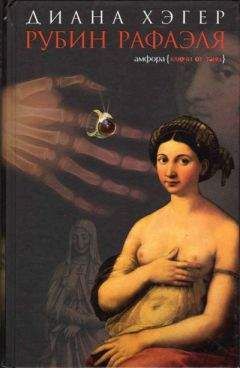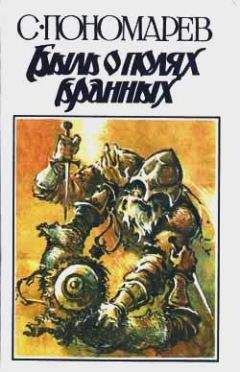– Чорт возьми! – кричал Убальдини, стуча кулаком по столу – она не должна умереть…. нет, не должна…. Пускай лучше….
Он не договорил. Тогда один из товарищей спросил его:
– Лучше что?!
– Лучше разбить Аполлона Бельведерского и Лаокоона….
– Я отдаю и купол Петра в придачу, – прибавил третий.
– Тем более, что эти вещи мы можем сделать вновь, – заметил француз. Но Убальдини посмотрел на него и не то с гневом, не то насмешливо, сказал:
– Нет, брат-француз, эти вещи не делаются вновь. Только лучше пусть они погибнут, чем невинное создание Божие.
– О вандалы! – воскликнул один молодой художник, и вдруг остановился, желая найти в своей голове наиболее достойный эпитет. – О вандалы! – этим все сказано, и хуже этого слова я не могу найти. Вы хотите уничтожит наши модели… А что же вам останется делать и кого изучать?! Уж не вас ли?
– A! Если б Беатриче родилась в твоей коже, хорошо было бы для неё! теперь она не была бы в ожидании тяжелой минуты, которая ей предстоит.
– Какое это имеет отношение к моей коже? я не понимаю.
– Такое отношение, что, как слышно, ее казнят, чтоб завладеть её деньгами. А у тебя можно вырвать все зубы, но уж деньгами не поживишься.
– Замолчите ли вы? – Красота, которой мы поклоняемся, не есть красота куртизанки, но чистейшего, божественного создания, – и вы должны помнить это. Для того, чтобы такая красота снизошла в ваши души и сделала нас способными воспроизвести ее, надо принимать ее, как апостолы приняли сошествие Святого Духа.
Эта строгая речь, произнесенная Убальдино с подмостков, остановила разом пустую болтовню его товарищей, и легкомысленные молодые люди вдруг стали серьезны, как святые отцы на Тридентском соборе[53].
Первые лучи солнца, всплывшаго из за гор, осветили в тюрьме Тординона самую грустную картину. Джакомо и Бернардино, сведенные вместе, бросились в объятия друг друга….
– Поди ко мне, мой дорогой! обними меня…. так, мне кажется, будто я обнимаю своих детей…. Горе мне! Мои дети… мои бедные дети!.. сироты…о, дети…. отцеубийцы, преследуемые злыми людьми, которые властны сделать с ними что захотят, лишить их всего, даже куска насущнаго хлеба…
– Бедняжки! И их лишат всего, всего!
– Скажи мне, брат, ведь ты многого насмотрелся на свете, правосудие всегда бывает такое?
Джакомо отвечал ему только вздохом. Вдруг ребенок услышал звук колокола.
– Слышишь, Джакомо, слышишь! что это за колокол звонит у нас над головою? спросил он.
Джакомо крепко прижал брата у себя на груди и не отвечал.
– А тебе жаль умирать? – произнес он невольно.
– Да, жаль; я люблю птичек и бабочек, я люблю цветы, по которым они летают, я люблю смотреть за Тибр, когда в нем много воды и когда он быстро бежит; я все люблю. Здесь я вижу солнце, мне от него и светло и тепло, а там будет темно и холодно. Тут, где я живу, я знаю, что есть; а там что будет? Говорят, будет хорошо, и я этому верю, только я все-таки не знаю наверное, что там будет.
– Будь готов, брат мой: этот колокол звонит наши последние минуты… Он объявляет нам, что пора идти, вот мы и хотели бы остаться здесь…
Как бы в подтверждение его слов, у двери тюрьмы показались исповедники, и братья мизерикордии.
– Мужайтесь, братья, часть приближается, произнес мрачный голос.
– Пусть будет воля Божия, – ответил дон Джакомо, но Бернардино прервал его:
– Да разве это воля Божия, Джакомо?
– Конечно, потому что все делается по воле Божией, и, сомневаясь в этом, вы совершаете большой грех, – ответил исповедник, вместо Джакомо.
– Если это так, батюшка, то я раскаиваюсь; и для того, чтоб эта мне зачлось в раю, я буду верить, что меня по воле Божией невинного ведут на казнь.
– Кто из нас невинен? все мы преступны пред лицем Всевышнего.
– Отчего ж их всех ведут за смерть?
– Бог посылает испытание тем, кого любят; и ты, сын мой, благодари его за то, что он избрал тебя из тысячи для того, чтобы ты испытал его бесконечное милосердие.
– Батюшка, – наивно отвечал малютка, – не займете ли вы в таком случае моего места?..
Монах сложил руки в знак сокрушения сердечного и, поднял глаза к небу, отвечал:
– Я от всей души желал бы, сын мой, чтоб это было возможно; но это невозможно.
Появление мастера Алессандро, с его лицом, неподвижным, как у бронзовой статуи, прервало разговоры. Он надел на осужденным черные плащи с капюшонами, принесенные братьями мизерикордии; плащ, надетый на Джакомо был тот самый, который носил Франческо Ченчи, принадлежавший во время своей жизни к этому человеколюбивому обществу.
Потом все медленными шагами вышли в тюрьмы. Джакомо остановился за пороге комнаты, которую покидал навсегда и которая была свидетельницей его невыразимых страданий.
– Семьдесят семь раз да будет проклят человек, осуждающий человека на отчаяние в этой могиле, – сказал он – тот же, кто одним ударом низвергнет его в могилу, проклят только семь раз.
Погребальный звон колоколов продолжается; барабаны начинают свой несвязный бой. Во дворе было выстроено несколько эскадронов кавалерии и толпа пеших сбирров; за ними стоят братья мизерикордии, палач, его помощники, – одним словом, вся обстановка дикой силы, которою должно окружать себя правосудие, когда оно не есть правосудие.
Бернардино смотрел на все эти приготовления, как потерянный; и особенно привлекли его внимание две тележки, на которых в жаровнях, полных горячих углей, накалялись железные щипцы. От с детским любопытством спросил;
– Джакомо, а зачем эти щипцы?
Джакомо не отвечал, и большая часть братьев мизерикордии под своими капюшонами проливали слезы. Но малютка настойчиво допрашивал:
– Я хочу знать, Джакомо, скажи мне. Не думай, что ты напугаешь меня. Ведь я уж знаю, что умру.
– Это для нас – ответил Джакомо, и больше он не мог ничего сказать.
– О! я никогда не думал, что для меня нужно столько инструментов; со мной так легко покончить. Посмотри, у меня шея тоненькая, как тростник; палачу будет немного труда над нею.
Он заметил еще гвоздь, дубину и красный плащ. Все эти вещи, как обличители преступления были сложены на одной из тележек для того, чтоб их видела публика.
– Джакомо, посмотри, ведь это тот самый плащ, который носил наш отец!
Духовные ассистенты, для того, чтобы внимание ребенка не отвлекалось от религиозных помыслов, надели ему, а также и Джакомо на голову род ящика, внутри котораго было изображено Распятие и были наклеены разные молитвы; этим способом полагали достигнуть совершеннаго сосредоточения обвиненных за предметах не от мира сего. Но малютка принялся кричать, чтобы с него сняли ящик и не отнимали возможности видеть небо, где Бог. Вдруг у ворот произошло волнение в народе; солдаты стала сторониться, и между их рядами медленно въехала во двор карета. В толпе раздались крики, отражаясь от стен тюрьмы, как морския волны в бурю: