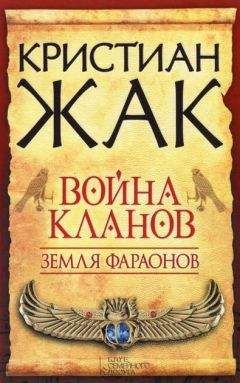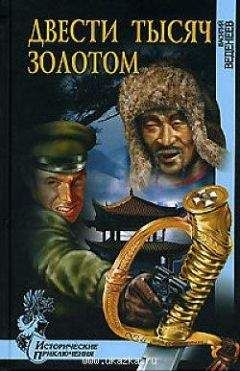Пока я сидел и с болью в сердце размышлял об этом, глядя в зеркало, в дверь постучали.
– Открой, Атуа! – сказал я.
Старая женщина встала, отворила дверь, и в комнату вошла женщина в греческом платье. Это была Хармиона, все такая же прекрасная, как когда-то, только милое лицо ее было очень печально, хотя в опущенных глазах тлел огонь, готовый в любую минуту вспыхнуть.
Она пришла одна, и Атуа, не произнося ни звука, указала ей на меня и вышла.
– Старик, – обратилась ко мне Хармиона, – отведи меня к ученому Олимпию, я прислана царицей по делу.
Я встал, поднял голову и посмотрел на нее.
Она впилась в меня глазами и негромко вскрикнула.
– Нет, не может быть… – прошептала она и оглянулась по сторонам. – Не может быть, чтобы ты… – Она замолчала.
– Чтобы я был тем Гармахисом, которого когда-то любило твое неразумное сердце, о Хармиона? Да, тот, кого ты видишь, и есть Гармахис, прекраснейшая госпожа. Вот только тот Гармахис, которого ты любила, умер. Но остался Олимпий, ученый египтянин, и он ждет твоих слов!
– Замолчи! – сказала она. – О прошлом я скажу всего одно слово, а потом… Потом оставим его в покое. Плохо же ты, Гармахис, при всей своей учености и мудрости знаешь женское сердце, если мог подумать, будто оно меняется, если меняется внешность, и способно разлюбить. Если было бы так, то ни один человек не оказался бы в последнем месте перемен, могиле, любимым. Знай же, о мудрый целитель, что я из таких людей, кто, раз полюбив, любит всегда, до последнего дыхания, и, не снискав ответной любви, умирает в девственной чистоте.
Она замолчала, и я, не находя ответа, склонил перед ней голову. И все же, несмотря на то что я ничего не сказал, несмотря на то что, по правде говоря, неудержимая страсть этой женщины была причиной нашего краха и погубила меня, в душе я был благодарен Хармионе. Каждый мужчина в этом бесстыдном дворце добивался ее расположения, но она все эти долгие годы хранила безответную любовь к изгою, отвергнутому людьми, и когда этот несчастный, сломленный раб судьбы вернулся в столь неприглядном обличье, она и тогда не перестала любить его. Ибо может ли какой-нибудь мужчина не ценить этот редкостный и прекрасный дар, единственное сокровище, которое не купишь и не продашь за золото, – неподдельную женскую любовь?
– Я благодарна тебе за то, что ты не отвечаешь, – сказала она, – ибо яд тех горьких слов, которые ты бросил мне тогда, в те далекие дни там, в Тарсе, до сих пор жжет меня, и в моем израненном сердце уже не осталось места для стрел твоего презрения, отравленных долгими годами затворничества. Не будем больше вспоминать прошлое. Да будет так! Я вырываю из себя эту губительную страсть своего сердца, – она взглянула на меня и вытянула руки, как будто отталкивая от себя что-то невидимое. – Я вырываю ее… но забыть не смогу никогда! Вот и все, Гармахис, с прошлым покончено, больше моя любовь не побеспокоит тебя. Мне достаточно того, что мои глаза снова увидели тебя, прежде чем вечный сон навсегда сомкнет их. Ты помнишь, как я хотела принять смерть от руки любимого, но ты оставил мне жизнь, наказав пожинать горькие плоды моего преступления? Помнишь, как проклял меня, пообещав, что меня не оставят видения сотворенного мной зла и воспоминания о том, кого я погубила?
– Да, Хармиона, я хорошо это помню.
– О, поверь, я выпила чашу страданий до дна! Если бы ты мог заглянуть в мое сердце и увидеть следы тех мук, которые пережила я, пережила, продолжая улыбаться, ты бы понял, что справедливость свершилась и что я искупила свою вину.
– И все же, Хармиона, если верить рассказам, ты при дворе первая, самая могущественная и самая любимая среди всех царедворцев и тебя никто не может затмить. Разве Октавиан не признался как-то, что ведет войну не с Антонием и даже не с его любовницей Клеопатрой, а с Хармионой и Ирас?
– Да, это так, Гармахис, и представь, каково мне из-за той клятвы, которую я тебе дала, есть хлеб и служить той, которую я ненавижу всем сердцем! Той, которая украла тебя у меня, которая, разбудив мою ревность, сделала меня тем, кто я теперь есть, вынудила изменить нашему святому делу, покрыть бесславием тебя, обрекла на вечный позор меня, а Египет на погибель. Могут ли сокровища и богатства, льстивые речи принцев и вельмож сделать счастливой такую женщину, как я? Да я несчастнее любой нищей судомойки, судьба которой легче моей. О, как часто я по ночам выплакивала глаза, а потом наутро мне нужно было вставать, наряжаться и с улыбкой отправляться выполнять распоряжения Клеопатры и этого тупоголового солдафона Антония. Боги, сделайте так, чтобы я увидела, как они оба умрут! И она, и он! А тогда и я смогу умереть спокойно. Тебе пришлось тяжело, Гармахис, но ты хотя бы был свободен. Если бы ты знал, сколько раз я завидовала твоей уединенной жизни и покою в этой мрачной гробнице!
– Я вижу, Хармиона, что ты верна своим обетам, и это хорошо, ибо час возмездия уже близок.
– Да, я верна своим обетам. Я втайне уже много успела сделать для тебя… Для тебя и для гибели Клеопатры и ее римлянина. Я разожгла его страсть и ее ревность, я подталкивала ее на преступления, а его на глупости. Но главное: это я сделала так, чтобы обо всех их поступках доносили Октавиану. Послушай, как сейчас обстоят дела. Ты знаешь, чем закончилось сражение при Акциуме. Клеопатра прибыла туда со всем своим флотом, хотя Антоний был против этого. Но по твоему указанию, когда ты прислал мне весточку, я пришла к нему и со слезами на глазах стала умолять его позволить царице сопровождать его, сказала, что, если он оставит ее, она умрет от горя. И он, ничтожный глупец, несчастный раб Клеопатры, поверил мне. И вот она приплыла на сражение, но в самый разгар битвы по неведомой мне причине (хотя, возможно, ты это знаешь, Гармахис) она приказала своему флоту разворачиваться и поплыла к Пелопоннесу. А теперь узнай, к чему это привело. Антоний, увидев бегство Клеопатры, совсем обезумел. Он пересел на галеру, бросил свое войско и помчался за ней вдогонку. Флот его был разбит и потоплен, а его огромная армия в Греции (двадцать легионов и двенадцать тысяч всадников) осталась без полководца. Никто не мог поверить, что Антоний, этот избранник богов, пал так низко. Войско какое-то время выжидало, но сегодня вечером военачальник принес весть, что, устав от сомнений и наконец поверив в предательство Антония, вся его огромная армия перешла на сторону Октавиана.
– А где же сейчас Антоний?
– Он построил себе небольшой дом на маленьком островке в Большой Бухте и назвал его Тимониум, ибо подобно Тимону сетует на людскую неблагодарность, считая, что его все предали. Он мечется там, словно сумасшедший, и ты должен отправиться туда на рассвете – таково желание царицы, – чтобы излечить его от помрачения и вернуть в ее объятия, ибо он отказывается видеть ее и пока еще не знает всех последствий своего поступка. Но сначала мне велено привести тебя к Клеопатре, которая хочет посоветоваться с тобой, и как можно скорее.