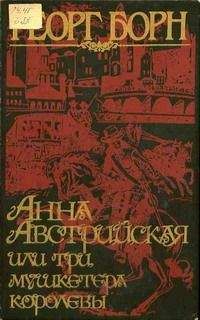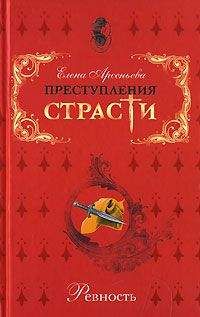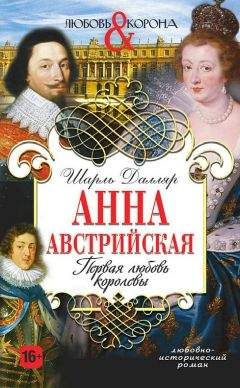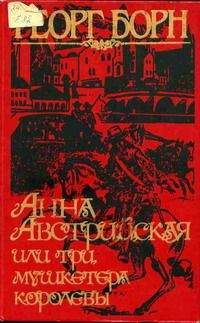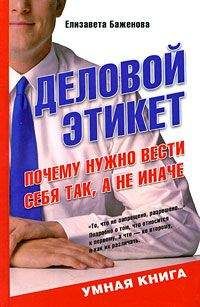Я понял, что это ему я обязан неожиданным приказом ехать в Седан, но сдержался и ни слова ему не сказал. Обдумав, я решился ехать, говоря себе, что Магдалена не изменит мне, как и я ей, а через несколько лет, когда война кончится, я осуществлю свой благородный замысел.
Я надеялся, что отец не станет больше противиться нашему браку, и мы с Магдаленой будем еще счастливее.
Каким бывает человек легкомысленным в молодости! С какой надеждой он смотрит в будущее! Какие у него розовые понятия о счастье!
— Ты был уже в это время знаком с графом Люинем? — спросил виконт.
— Да, я с ним познакомился в Лувре. Он называл себя моим другом и скоро доказал, как он понимал эту дружбу… Не стану забегать вперед. Я пошел к Магдалене и нашел ее в слезах. Упреки моего старого вспыльчивого отца как ножом резали ей сердце.
Я повторил ей свою клятву, сказал, что меня командируют на некоторое время в Седан, но что я скоро вернусь и назову ее своей женой перед Богом и людьми…
Она бросилась в мои объятия… Я стал целовать ее губы, она, дрожа, прижимала меня к своему сердцу и клялась в неизменной любви…
— Это был чудный вечер. Самый прекрасный во всей моей грустной жизни, но за то и самый преступный, или, вернее, я был в этот вечер слабее, чем когда-нибудь. Магдалена совсем отдалась мне; мысль о предстоящей разлуке победила во мне голос рассудка. Мы забыли весь свет, наслаждаясь любовью и счастьем.
На другой день я явился к отцу. Он холодно простился со мной, ни слова не сказал больше о Магдалене и пожелал только, чтобы я, вполне посвятив, себя своему призванию, сделал честь своей службой нашему имени.
Я уехал в Седан, не подозревая, что буду там арестован.
— Как, неужели твой отец это сделал? — спросил Милон.
— Нет, друзья мои, отец ничего об этом не знал. Это была дружеская выходка Люиня, которому давно хотелось отбить у меня прекрасную Магдалену!
Моя ссылка в Седан была для него очень кстати, и он выхлопотал у принца Людовика позволение арестовать меня.
Напрасно я протестовал, требовал, чтобы мне дали возможность обратиться за помощью к отцу. Около года меня держали под арестом в Седане и еще больше продержали бы, если бы не внезапная смерть моего отца.
Меня отпустили. Я был единственным наследником, и король Генрих хотел ввести меня в права наследования…
Меня отпустили тогда, когда негодяю графу Люиню после бесчисленных коварных уловок удалось, наконец, отнять у меня то, что мне было дороже жизни! Нет, не просто отнять, а еще хуже — опозорить!
— За это-то ты с ним и расправился тогда?
— Да, хоть и после долгих лет ожидания… И я был очень рад, что, наконец, он получил по заслугам! Граф Люинь опутал бедную, беззащитную девушку, а когда умерла ее мать, оберегавшая ее до тех пор, ему удалось уверить Магдалену, что я больше не вернусь, что я ее бросил! Не получая от меня никаких известий, она, наконец, поверила ему, забыла, что лишила меня самого святого, самого дорогого в жизни!
— Какая тяжелая судьба! — заметил Этьенн.
— Да, друзья мои, очень тяжелая! — продолжал маркиз. — Я вернулся из Седана и нашел отца — в могиле, а любимую девушку — опозоренной!..
— Не могу передать, что я выстрадал, когда пришел к Магдалене и она в отчаянии призналась мне в своей вине!
В первую минуту я страшно рассердился, но потом мне стало до глубины души жаль ее, и невыразимая боль пронзила мое сердце!
— Магдалена упала передо мной на колени и просила о прощении; она плакала и молила Бога о милосердии к ней.
— Несчастная хотела наложить на себя руки, хотя это было бы двойным преступлением, потому что несколько недель перед тем она дала жизнь сыну — ребенку нашей любви!
— Я стал обдумывать, что делать. Сначала мне казалось, что все вокруг меня рушилось — все мои надежды, все планы! Борьба была тяжела, но я вышел победителем.
— Мне пришлось вступить в права наследования, — необходимые при этом хлопоты немного отвлекли меня. Прежде всего я продал наш дом на улице Сен-Дени, чтобы ничто не напоминало мне о прошлом, потом усердно занялся службой и подружился с Милоном и Каноником.
— Мстить Люиню я в то время не собирался: гордость не позволяла мне сделать это. Мне было противно говорить с ним и требовать от него удовлетворения. Его поступок казался мне слишком грязным.
— Но я твердо решил исполнить свою клятву, данную Магдалене. Она и мой ребенок терпели нужду… Я нанял для них хорошую квартиру с полной меблировкой, нанял служанок для Магдалены и приставил к ней своего старого камердинера, которому поручил так заботиться о ней, чтобы она ни в чем не нуждалась, чтобы каждое ее желание предупреждалось… Таким образом, часть моего долга была исполнена.
— Как это холодно звучит! — заметил Милон, — разве ты делал это только по обязанности?
— Нет… Буду говорить откровенно… Я и тогда страстно любил Магдалену, любил ее и после ее измены, но я скрывал эти чувства даже от самого себя.
— Она увлеклась, но ведь и раскаялась в своем поступке, — сказал Этьенн, — главный виновник тут — де Люинь.
— Раскаяние, друг мой, не могло изгладить совершившегося факта! Магдалена лишилась того, что не возвращается никаким раскаянием, никаким искуплением. Я потерял то, что особенно освящает любовь — доверие! Я не в силах выразить всех страданий, я окончательно потерял доверие к людям! Магдалена была мне дороже всего… я похоронил свое сердце, потому что после этой девушки не мог уже любить другую.
— Что же было дальше?
— Магдалена послала за мной… Это был страшный вечер… Она изнемогала от сознания своей вины, а между тем испытывала самую нежную любовь ко мне и к нашему ребенку… Ей хотелось знать, что ее ждет.
— Я всего только и мог ей ответить, что сдержу свое обещание, и она будет маркизой де Монфор… Мальчик получит имя. Но когда я сказал, что уже не могу больше чувствовать прежней горячей, чистой любви, она вдруг упала в конвульсиях. Я всеми силами старался ее успокоить и утешить. Придя в себя, бедняжка, рыдая, упала ко мне на грудь… Я весь дрожал… Мне было так жаль ее, так глубоко жаль того, что с нами обоими случилось! После всего этого мы ведь уже не могли больше надеяться на счастье.
Маркиз на минуту замолчал. Его, видимо, подавляло воспоминание о тяжелом прошлом…
Милон и виконт тоже не говорили ни слова… Для такого горя утешений нет!
— Через несколько дней, дав ей время успокоиться, я опять пошел к ней, — продолжал маркиз, — я хотел приготовить ее к обряду, который мы должны были исполнить, и сказать ей, что она на всю жизнь сохранит права маркизы де Монфор, но мальчика после свадьбы она должна отдать мне. Когда я все это высказал бедняжке, которую по-прежнему любил, она горько заплакала, но потом с замечательной твердостью ответила, что мое требование совершенно справедливо, что она на все согласна, так как ей никогда не искупить своей вины!