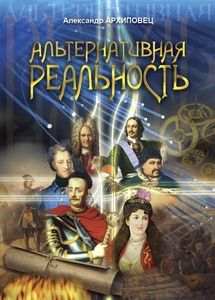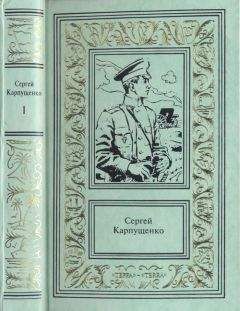Нагнувшись и почесывая быстро появившуюся на затылке шишку, оглянулся. Даже среди бела дня здесь царили полумрак и уныние. Поразила убогость обстановки. Печь, рядом с ней заменяющий лежанку деревянный настил, пара полок с глиняной посудой, два больших с медной окантовкой, но рассохшихся и треснувших сундука. Незатейливо сколоченный стол и хромоногие, словно инвалиды войны, лавки. В углу – две блеклые иконки с коптящей под ними масляной горелкой (по-ихнему она называлась "лампадой").
На одной стене висело потемневшее от возраста и пыли (ведь пол-то был глиняный) полотно с вышитыми на нем разноцветными узорами. На другой – военная гордость Овсия – местами поржавевшая, зазубренная сабля с серебряным эфесом и кремневое ружье с резным, усеянным множеством мелких трещинок, деревянным прикладом.
Вначале я подошел к иконам. Написаны на досках. Художник, видать, особым умением не блистал. Лики Христа и Богородицы смазаны, невнятные. К тому же, их покрыла многолетняя копоть.
Разглядев сквозь облезшую краску сучок, паутину в углу со скопившейся на ней пылью, вновь поразился полноте реальности происходящего.
"Неужели все это проделки монстра Хроникона?"
Ледяной ветерок страха вновь повеял в груди. Прогнав его прочь и опять треснувшись головой о потолок, подошел к ружью. Стал разглядывать, совсем позабыв, что за мной тоже наблюдают. Голос Овсия заставил вздрогнуть.
— Добрая рушныця, у басурмана добыл. Жаль, колесико треснуло. Наш кузнец чинить не берется. Нужно идти в Полтаву. Там сделают. Только вот дорога не близкая да и сила не та… А рушныця, смотри, еще и сгодится…
Глядя на деда глазами "дурныка", телепатически всячески поощрял разговор. Пора осваивать следующие ступени: навивание и контроль. Без них добиться чего-либо не удастся. Согласно рекомендациям "коллег", можно пытаться на вторые-третьи сутки после темпорального шока.
— …еще постреляем. Козаки болтают – война будет… Царь московитов Петр со шведским Карлой. Ну а Карла уже подмял датцев, саксонцев и пыхатым польским панам чубы подрал… Да и по заслуге им – "пся крев". Привыкли нас за быдло держать… Вот и говорю: еще пригодится… Саблей махать мне уже не сподручно…
Он надолго умолк. Похоже, сожалел, что распустил язык. Я же тем временем, усевшись на пол и прикрыв глаза, обдумывал его слова.
Темпоральный прыжок не только удался, но и вывел в нужную точку пространства и времени. Уже немалая удача…
— Спать, дурныку, ночью будешь! А теперь вставай, пошли к отаману.
Тон Овсия на удивление резок. Не может простить себе лишней болтливости.
И вновь уже в который раз я ударился головой.
— Ну, бугай! Хату развалишь. Не зря Палажка пускать не хотела… Тьфу! Прости, Господи, и где ты только взялся на мою седую голову? Кхе… кхе… кхе…
Дождь еще сеял едва заметной пылью. Но вот-вот должен был прекратиться. Сквозь разорвавшуюся облачность то и дело проглядывало солнышко.
С крыши хаты вода стекала в небольшие выкопанные вдоль нее канавки, затем попадала в другие, отводящие от глиняных стен.
Ноги сразу увязли в грязи. Она прилипала к подошвам, выступала между пальцами.
Хождение босиком причиняло массу неудобств. Непривыкшие к столь грубому обращению ступни ощущали каждую кочку, камушек или колючку. Если бы не чудодейственная регенерация, мои ноги представляли бы сейчас жалкое зрелище. Но и так кожа на них от въевшейся грязи почернела, огрубела, на пятках появились мелкие трещинки.
— Смотри-ка, веселка! Боже! Какая красивая!
Непонимающе посмотрел по сторонам.
Честно говоря – ничего особо веселого не нашел, но, проследив взглядом за пальцем Овсия, изумленно ахнул, враз позабыл о грязных ногах и о еще гудевшей от знакомства с потолком дедовой хаты голове. Оттуда, где за холмом текла река и колыхалось море камыша, до самого горизонта через треть небосклона сиял нерукотворный мост радуги.
Овсий, глядя на него, крестился. Я же стоял, открыв рот, не в силах оторвать глаз.
Мне приходилось видеть радугу, но такую! Столь близкую и реальную, сияющую и поражающую насыщенностью тонов. А за ней, о чудо! Была вторая и третья. Пусть не столь яркие и четкие, но вполне видимые. Буйство красок и цвета восторгало и пугало одновременно. Первый раз в жизни мне захотелось перекреститься, преклонив колени перед силой природы или божественного проявления.
Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый – они все были здесь в первозданном чистом виде. Такими, как их сотворил Господь. Да что это я? Ведь это всего лишь преломленный спектр! Да любой ребенок знает! А размеры и яркость красок – чистота атмосферы и толщина озонового слоя. Всего-навсего! И нет тут ничего чудесного.
Но убедить себя оказалось не так-то просто.
Мы добрые полчаса глазели на радугу, и лишь когда она поблекла и утратила свою прелесть, отправились в путь.
Дед взял с собой заостренную палку. Зачем она, я вскоре понял на собственном горьком опыте.
Короткий путь к селу пролегал через "ярок". Спускался Овсий осторожно, то и дело опираясь на "палю". Я же, поскользнувшись, свалился в грязь, окончательно перемазав и без того не особо чистые штаны и рубаху.
— Ну, как черт! — буркнул дед, неодобрительно оглядев меня с головы до ног. — Стыдно людям показать!
Пришлось опять счастливо улыбаться и бездумно пялиться на черные от грязи руки. Мою персону в селе оценили "по достоинству" – встречные бабки и молодки крестились, хлопцы многозначительно крутили пальцем у виска, старики неодобрительно поглядывали на Овсия, мальчишки кидали вслед гнилые яблоки, кричали: "Дурныку, дурныку, свалился з курныку!"
Дочь атамана – круглолицая, черноглазая Наталка – прыснула со смеху и, зажав руками рот, скрылась за дверью.
Атаман, недовольно поморщив рябой нос и презрительно прищурившись, буркнул:
— Ты, Овсию, нашел, тебе за ним и ходить… В воскресенье отведи к Феофану в Михайловку. Пусть глянет. Может, он чего скажет.
Так я остался под опекой Овсия. Ночевать приходилось то на берегу реки, то под "копыцею", где было не так уж плохо. Помогал по хозяйству: где чего поднять, поднести. На более "не хватало умишка". Ходил по деревне, рассматривал предков, слушал их разговоры. Так сказать, вживался в образ и ждал, когда меня поведут к Феофану.
* * *
Наконец, сей торжественный день наступил. Ранним утром, когда восток уже сиял червонным золотом, но солнышко еще не явило свой лучезарный лик; когда серые тона минувшей ночи бессильно жались по углам, уступая место ярким краскам молодого дня; когда сырость и прохлада бессовестно лезли под холщовую рубаху и штаны, гоня прочь сладкий рассветный сон, я услышал голос Овсия: