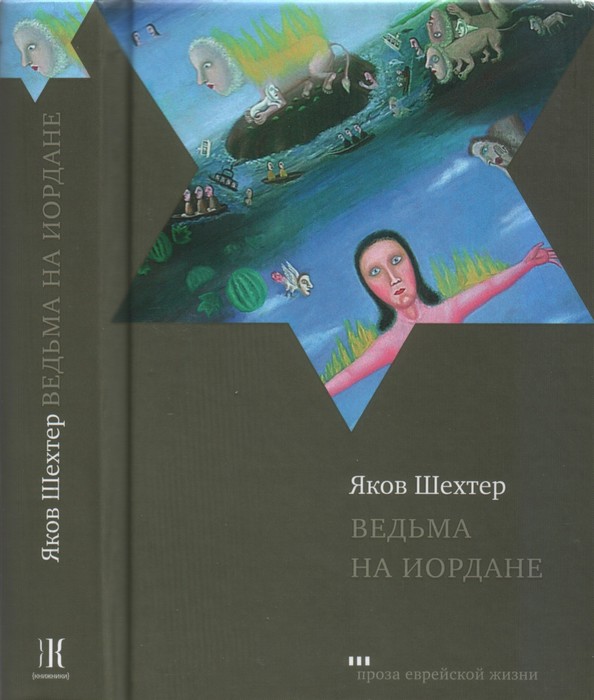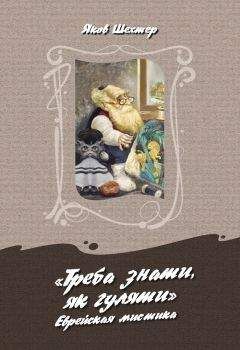кистени в умелых руках куда опаснее когтей и зубов. Годы постоянных упражнений, сотни, тысячи боев на деревянных мечах приучили мальчиков не задумываясь наносить и отражать удары. Плотные ферязи, поддетые под тулупы, надежно защищали от когтей и укусов. Правда, они же стесняли движения, поэтому схватка продлилась чуть дольше, чем предполагал Онисифор. Но зато никто из воспитанников не пострадал.
– Уходим, – приказал наставник. – Собрать стрелы и быстро вверх.
Третья стая промчалась по дну оврага, не обратив внимания на карабкающихся по склону людей.
– Зачем утекаем? – спросил Афанасий. – Могли бы и этих уделать!
– Дай другим потешиться, – буркнул Онисифор.
Уже потом Афанасий понял, что явно выказывать перед другими охотниками боевое умение воспитанников не входило в расчеты наставника. Он хотел проверить их в настоящем бою и, проверив, почел дело законченным.
Вернувшись в обитель, Онисифор долго обсуждал с ребятами подробности схватки. И хоть длилась она недолго, оказалось, что воспитанники успели запомнить множество подробностей. И все они не ускользнули от внимательного глаза наставника.
– Вот ты, – выговаривал он коренастому крепышу, – принял волка грудью. Почему?
– А я не слабее, – отвечал крепыш. – Он грудью, и я грудью.
– Дуралей, он зверь, а ты человек. Не силой брать нужно, а сноровкой. Пропустить его боком и вслед накрыть кистенем.
– Да разве плохо получилось? – настаивал крепыш. – Он от меня точно от камня отлетел, я его сразу и приголубил. Чик – и все.
– Медведя ты тоже на грудь принимать станешь? – пенял Онисифор. – Или рысь?
– Так на медведя пойдем? Когда?
– Когда найдем, тогда пойдем, – пряча улыбку в усы, ответил наставник.
Афанасий тоже улыбнулся. Шутка наставника показалась ему удачной. Но следующей зимой выяснилось, что Онисифор не шутил.
Той осенью Гнедко вернулся из дальнего плавания. После гибели князя Шемяки отец Афанасия подался в наймы. Защищал торговые грузы от разбойного люда, охочего до чужого добра. Купцы платили справно, и Гнедко ходил по Ильмень-озеру на парусных новгородских шитиках, больших судах, способных взять в трюмы тысячу пудов товара. В ладьях, с новгородскими дружинами, поднимался до Ладоги, хаживал в кичливую Ямь рыжеволосую [1], где еще сохранились дремучие леса с деревьями в пять обхватов, такими ветвистыми, что в их тени даже летом оставался снег.
Случалось, далеко уходили от земли родимой купцы новгородские. Через незнаемые бурные моря добирались к Зеленому острову [2], где из ледяной горы на десятки сажен бьет вверх кипячая вода. А однажды на ганзейском трехмачтовом когге свезли купцы Гнедко в палящую землю, где солнце стоит прямо над головой и так жарко светит, что на палубе когга пузырилась и выступала из щелей черная смола, а к медным частям такелажа невозможно было прикоснуться.
Случалось, по полгода не возвращался Гнедко из походов. Его жена, мать Афанасия, жила вдовой при живом муже. Но притерпелась, знамо дело – жена дружинника. Большинство товарищей Гнедка давно головы сложили кто в бою честном, кто в застенке великокняжеском, кто в кабаке, от подлого ножа, в спину всаженного. Настоящей семьей Гнедка стала монастырская обитель с пятью мальчишками и наставником. Туда он стремился, как в дом родной.
Афанасий хорошо помнил его возвращения, превращавшиеся в праздник, роздых от нескончаемой муштры, непременные гостинцы из дальних стран и особенно рассказы. После вечерней трапезы воспитанники собирались в келье Онисифора. Окно кельи изнутри покрывала наледь в три пальца, на столе коптел жирник, бросая по углам трепещущие тени. За ним требовался неустанный присмотр, иначе светильник быстро гас. Жирником в заозерном краю называли плоское глиняное блюдечко, наполненное салом, фитилем служил круто свитый лоскуток холстины. Чтобы поддерживать ровный свет, надобно было беспрестанно поправлять фитиль, то выдвигая из жира, когда он вспыхивал ярким пламенем, то вдвигая обратно, если он темнел от нагара.
Отец любил рассказывать о дальних краях. Афанасий так и не узнал, сочинял он или говорил правду. Теперь уже ни проверить, ни уточнить. Тогда, в келье, ребята слушали Гнедка с раскрытыми от изумления ртами, а Онисифор крутил бороду да в самых сочных местах повествования громко хлопал громадной ладонью по коленям.
Ах, как им хотелось вместе с Гнедком отправиться в дальние моря! Плыть под лазоревым небом мимо голубых островов, населенных диковинными, кричащими почеловечьи птицами. На всю жизнь запомнил Афанасий эти рассказы, запомнил как сказку, как дивный сон, несбывшуюся дремь. Он представлял себе эти острова так ясно, словно сам побывал на их берегах.
С тех пор прошло много лет, и хоть видения потускнели, расплылись, отошли на задний план, но все еще крепко сидели в его памяти, маня зелеными крыльями диковинных птиц, терпеливо дожидаясь своего часа. Так сны детства: вроде ушли они навсегда вместе с молочными зубами и детскими игрушками, ан нет, светлеет взгляд, крепнут мышцы, яснеет разум, а мечты остаются мечтами. Не выкорчевать их из сердца, не избыть. Только пережить и убедиться, что неспроста Высшая воля поманила открытую детскую душу, внушив ей именно такие мечты.
Отец часто возвращался к последним дням жизни князя Дмитрия, отравленного вероломным Василием.
– Есть разница между помнить и не забывать, – повторял он. – Не забывать – иногда приникать мыслью, а помнить – постоянно держать перед глазами. Мы должны помнить о князе Дмитрии и жить мыслью о мщении.
Ему вторил Онисифор. Старые дружинники старались ярить у василисков злость на семью великого князя. Ведь когда придет час, а он придет и довольно скоро – так они верили, – рука не должна дрогнуть, жалость не имеет права закрасться в сердце.
«Юность не терпит мрачности, – думал Афанасий. – Суровые кельи монастыря, с обледенелыми окошками и дощатыми нарами вместо постели, казались нам верхом уюта и домашнего тепла, а мрачные мысли о смерти и мщении отскакивали от наших голов, не проникая внутрь. Происходящее казалось нам игрой, бесконечным состязанием на скорость, ловкость, точность, удачу. Монастырь был нашим домом, чернецы – семьей. Ничего другого мы не знали и были счастливы. Да, счастливы!»
Афанасий сел, звякнув цепью. Теперь ему хотелось пить, он протянул руку за кружкой и вспомнил, как сам подпихнул ее брату Федулу. Не достать. Да если б и мог, разве стал бы он забирать воду у избитого до полусмерти человека?
Мать скончалась от эпидемии, когда Афанасию шел пятнадцатый год. Тогда в посадах вокруг Новгорода почти никого не осталось, все повымерли. Так отец рассказывал. Афанасий почти не расстроился; от матери его увезли в четыре года, и с тех пор он видел ее только два раза. Он не испытал никаких чувств к незнакомой толстой женщине, слюнявившей ему щеки поцелуями и