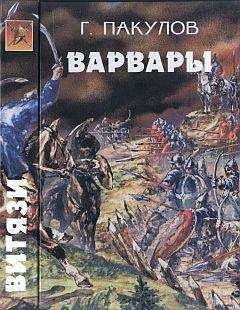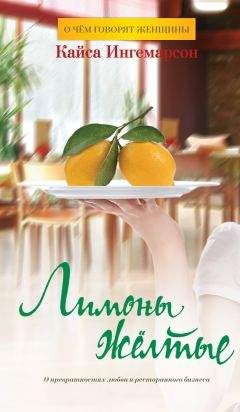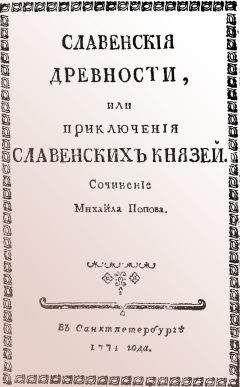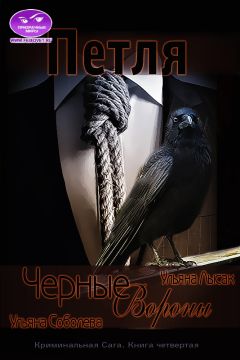Дарий хорошо понимал, что фараон спешил задобрить молодого и быстрого царя, если не кровосмешением династий, то хотя бы гаремным присутствием племянницы рядом с кто знает о чем помышляющем на завтра царем все ширящейся Персиды. Одной племянницы показалось мало, и фараон поубавил сокровищницы египетских храмов, сотни лет собираемые жрецами. Пот и следы земледельцев переплавлялись в золотые слитки, чтобы содержать многочисленную рать прислужников бога Амона. Жрецы возроптали, но страх перед вторжением Дария сделал их послушными. Теперь эти слитки тяжело легли в подвалах Ниневии. Считалось, что золото жрецов и дары самого фараона отвели от земель плодородного Нила завистливый взгляд Дария. Надолго ли?
Тем временем туча подползла к низкому солнцу, задела его краем, и сразу на Ниневию упала хмарь. Ветер, дувший из–под тучи, ворвался в окно, поднял дыбом рыжие волосы Дария над бледным лбом с янтаринами узко–посаженных глаз. Отвесно хлынул ливень, будто кто дернул за шнурок и опустил звонкий навес из прозрачного стекляруса. Мигом потемнели плоские крыши, по желобам покатились мутные потоки, кружа голубиные перья и мусор. Желтая, с черно–синей подпалиной туча наползла на дворец, навалилась тяжелым брюхом, клочьями проникла в окно, принеся запахи грозы. Блеснула молния, ударил гром. Ослепленный Дарий попятился от окна, бросился под балдахин на широкую кровать, обхватил руками голову. Под пальцами, унизанными перстнями, затрещали волосы, проскочили колкие синие искры.
– О боги милосердные, единственные защитники мои! Отведите огонь гнева небесного от червя ползающего, немыслимого, возжелавшего стать вровень с непостижимыми вами! – зашептал Дарий, зарываясь в пышную постель, в надушенные подушки.
Но гроза прошла скоро и унесла страх. Царь откопался из постели, швырнул на пол одеяло из леопардовых шкур, подбитых голубым шелком и, озлобленный на себя за пережитый страх, заметался по опочивальне, путаясь в длинной рубашке. По пути схватил узкогорлый кувшин и, проливая на впалую грудь розовую воду, жадно сделал несколько больших глотков, утер мокрый, скошенный подбородок, а заодно мазнул рукавом по вспотевшему от испуга лбу. Немного отпустило. Он с неприязнью человека уязвленного посмотрел на окно. Бронзовые створки по–прежнему были открыты, но теперь их грани жарко горели на закатном солнце. Будто не было тучи, не было грозы, принесшей страх стоящему перед окном рыжеволосому человечку. Створки сияли, притянув на себя лучи животворного светила сияли, будто смеялись. Все в мире высшем, вечном было ясным, простым и радостным. Эти или похожие на эти мысли навестили ум оскорбленного Дария, и он не вынес их правды. Вильнув хилым телом, царь размахнулся и запустил кувшином в окно, в безмятежный и вечный собою мир, но мимолетный и тревожный для всякого смертного в нем, даже для него – всесильного владыки, пригнувшего к стопам многие народы. И с правдой этой нельзя ни бороться, ни спорить ему – отмеряющему свой короткий век.
Царь всегда одевался сам. В легком платье, сандалиях, он толкнул боковую дверь, прошел коридором и очутился в женской половине дворца – гареме, убранном цветасто, благоухающем ароматами. При появлении царя многочисленные жены и наложницы, возлежавшие на пышных диванах, кольцом окруживших огромную чашу фонтана, поднялись на ноги, переломились в талиях, отвесив церемониальный поклон божественному мужу и любовнику.
Дарий был бесплоден, и хотя не знал об этом, но вопрос о будущем престолонаследии уже так долго оставался открытым, что он стал искать злую причину не в себе самом, а немилосердии богов и нерадивости жен. Он подошел к фонтану, и женщины со щебетом обступили его, предлагая радостно и бурно кто вина, кто ласку. Мрачные, ожиревшие евнухи засуетились, подсказывая женам, что надо делать, чтобы прогнать печаль молодого царя. Полилась сладострастная, жалобная музыка, задвигались в чувственном танце полуобнаженные фигурки. К царю с кадильницей, из которой лениво поднимались струйки ароматного дыма, подплыла волоокая красавица – старшая любимая жена. Помахав кадильницей перед хмурым царем и не дождавшись его улыбки, она осторожно положила на его плечи ленивые плетни холеных рук, прильнула к груди и, словно умирающая, с открытым ртом и опущенными ресницами, бросившими тень на пол–лица, сползла на пол, припала к сандалиям.
Дарий смотрел на смоль ее волос, испятнанных кровавыми бутонами роз, молчал.
– О, не пролей гнев свой на непотребную меня! – простонала жена, ласкаясь щекой о сандалию. – Я опять не понесла, но это от любви моей жгучей к тебе! Она испепеляет меня, пожирает мою плоть.
Дарий освободил одну ногу, потом вторую.
– Ты могильник моих надежд, – сказал он жене.
Женщина распласталась крестом на лазуритовом полу и, казалось, умерла от жестокого упрека.
Чувствуя все нарастающую неприязнь ко всем этим роскошным женщинам, половина которых, так и не познав его ласк, рано состарилась и разжирела, он направился было в отведенную для египтянки Этты и убранную по его вкусу спальню, но передумал. Постоял у красно–мраморного столика, задумчиво взял горсть сушеной саранчи из затейливой серебряной чаши, бросил в воду фонтана. Рыбешки от всплеска искрами брызнули в глубину и там припали к белому песку, сияя золотисто и округло, будто просыпанные из царской руки тяжеловесные монеты.
Дарий покинул гарем и через множество переходов и лестниц стал подниматься на плоскую крышу дворца. Там, на месте высоком и уединенном, ничто не мешало сосредоточиться, побыть одному или пригласить кого надо для неторопкой беседы. Бывало, с этой крыши кто–нибудь да оступался, пятясь перед царем, быстро меняющим милость на гнев. Но на этот раз его собеседнику беда не грозила. Дарий пришел на встречу с существом, непостижимым для человеческого ума, живущим только волею богов, являя собой их глаза, язык и уши. Этим существом был вавилонский оракул. Дарий не смел ему перечить.
Оракул ждал его. Он то ли сидел, то ли стоял, этого понять было нельзя, так как его скрывал длинный балахон без рукавов, расшитый зелеными звездами и стянутый черным шнурком на изжеванной шее. Царь никогда не видел его переступающего ногами, как все люди. Да и на встречи всегда первым являлся оракул, а уходил первым царь.
Дарий остановился поодаль, почтительно поклонился старцу, пытаясь угадать по лицу – расположены ли боги общаться с ним, но лицо непостижимого было непроницаемо, как маска, как таинственная печать, что ложится на лик усопших.
В ответ оракул кивнул бритой головой, покрашенной белой краской с начертанными по ней знаками луны. Царь приблизился, смиренно опустился на скамеечку, поставленную напротив оракула, который восседал чуть вознесенным над каменными плитами крыши, будто парил в воздухе. Ни раньше, ни теперь Дарий не понимал, как это ему удается. Иногда балахон оракула приподнимался, и тогда царю был отчетливо виден просвет между крышей и висящим над ней провозвестником богов.