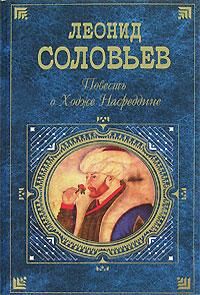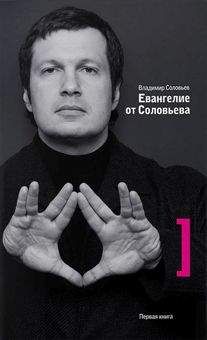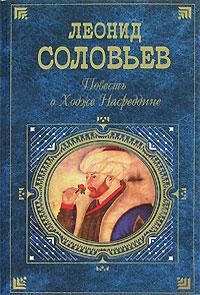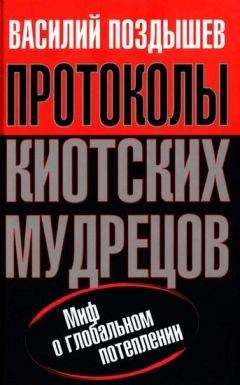Не без труда разглядел он среди этого самума злобы одного пожилого писца, не принимавшего участия в общей склоке, да и то не по благоразумию и кротости, а по другой, весьма тонкой причине. Он слушал. Вытянув длинную шею, блестя на солнце огромным голым черепом, как бы сплюснувшим своею тяжестью сдавленное костлявое лицо, он слушал, хватая на лету каждое слово, неосторожно брошенное в горячке взаимопопреков и могущее послужить ему для доноса. И тут же тайно записывал, чужеземными буквами, дабы какая-нибудь случайность не открыла его перед остальными писцами. Когда маленький Насреддин подошел к нему, он как раз записывал. «Яичество», – шептал он, скрипя тростниковым пером, и такая нришипилась в углах его тонких губ, такая тихая, змеиная, зловеще-радостная усмешка, что по ней безошибочно заранее можно было определить вкус той яичницы, которую намеревался он изготовить для кого-то в ближайшем будущем из этого «яичества».
Подняв глаза на маленького Насреддина, он спросил:
– Что тебе нужно, мальчик?
– Мне нужна коротенькая надпись – тушью, на китайской бумаге. Совсем коротенькая.
– Коротенькая надпись! – воскликнул писец, обрадовавшись доверителю, да еще такому, перед которым – по младолетию и неопытности его – можно во всю ширь безоглядно распустить павлиний хвост вранья. – Возблагодари же, мальчик, судьбу, которая привела тебя ко мне, ибо никто лучше меня во всей Бухаре не пишет именно кисточкой, именно тушью и как раз на китайской бумаге! Когда я был правителем дел Большого дивана в Багдаде и носил на своем парчовом халате знак Большого Льва – золотой знак, осыпанный алмазами, пожалованный мне самим калифом…
Маленькому Насреддину пришлось выслушать его вранье все до конца, нам же нет в этом никакой нужды, тем более что каждый многократно сам слышал нечто подобное. Такое вранье о своем прошлом величии вечно среди людей, сброшенных на дно жизни, и сопровождает все поколения, оставаясь одним и тем же в своей сущности. Рассказав о превратностях судьбы, о коварствах врагов и на этом закончив, писец вопросил:
– Какая тебе нужна надпись, мальчик? Говори – я и тебя осчастливлю.
– Всего три слова, – сказал маленький Насреддин. – Большими буквами: «Зверь, именуемый кот».
– Как? Повтори… «Зверь, именуемый кот»? Гм… Писец поджал губы и устремил на мальчика пронзительный взгляд своих остреньких, цепких глаз:
– А зачем, скажи, понадобилась тебе такая надпись?
– Кто платит, тот знает, за что он платит, – уклончиво ответил Насреддин. – Какова цена?
– Полторы таньга, – последовал ответ.
– Так дорого? Всего три слова!
– Зато какие слова! – отозвался писец. – Зверь!.. – Он сделал таинственно-зловещее лицо. – Именуемый!.. – Он прошептал это слово, придав ему какой-то преступно-заговорщицкий оттенок. – Кот!.. – Он вздрогнул и отпрянул всем телом, как бы коснувшись змеи. – Да кто же тебе возьмется за такую работу дешевле?
Пришлось маленькому Насреддину согласиться на цену в полторы таньга, хотя он так и не понял, в чем состоит опасная глубина его надписи.
Писец вытащил из-под коврика кусок желтоватой китайской бумаги, ножом обрезал его, вооружился кисточкой и принялся за работу, сожалея в душе, что из трех слов, порученных ему, нельзя, при всей его ловкости, выкроить ни одного для доноса.
На обратном пути маленький Насреддин задержался только в обувном ряду, где сапожным клеем наклеил надпись на гладко выструганную дощечку.
Повешенная перед входом в палатку, она имела весьма приманчивый вид.
– Теперь, бабушка, собирай деньги, – сказал маленький Насреддин.
Кот, посаженный в клетку, был уже водворен внутрь палатки и нудно-тягуче мяукал там, скучая в одиночестве.
Старуха со своим черепком расположилась у входа.
Маленький Насреддин встал от нее в трех шагах, поближе к дороге, набрал полную грудь воздуха и завопил так звонко, так пронзительно, что у старухи нестерпимо зачесалось в ушах.
– Зверь, именуемый кот! – кричал Насреддин, покраснев и приседая от натуги. – Находящийся в клетке! Он имеет четыре лапы! Четыре лапы с острыми когтями, подобными иглам! Он имеет длинный хвост, свободно изгибающийся вправо и влево, вверх и вниз, могущий принимать любые очертания – крючком и даже колечком! Зверь, именуемый кот! Он выгибает спину и шевелит усами! Он покрыт черной шерстью! Он имеет желтые глаза, горящие в темноте подобно раскаленным угольям! Он издает звуки – противные, когда голоден, и приятные, когда сыт! Зверь, именуемый кот! Находящийся в клетке, в прочной, надежной клетке! Каждый может его созерцать за два гроша без всякой для себя опасности! В прочной, надежной клетке! Зверь, именуемый кот!..
Прошло не более трех минут, как его усердие было вознаграждено. Какой-то базарный зевака, вышедший из скобяного ряда, остановился, послушал и повернул к палатке. По виду это был подлинный двойник Большого Бухарца, только меньше ростом, – его младший брат, такой же толстый, румяный, с таким же вялым и сонным взглядом. Он приблизился вплотную к Насреддину и, расставив руки, остолбенел. Его толстое лицо начало медленно расплываться в тягучей бессмысленно-блаженной улыбке, глаза остановились и остекленели.
– Зверь, именуемый кот! – надрывался прямо в лицо ему Насреддин. – Сидит в клетке! Два гроша за созерцание!
Долго стоял Малый Бухарец, внимая в тихом и бессмысленном упоении этим воплям, затем подошел к старухе, порылся толстыми пальцами в поясе и бросил в ее черепок два гроша.
Они звякнули. Голос маленького Насреддина пресекся от волнения. Это была победа.
Малый Бухарец откинул занавеску, шагнул в палатку.
Насреддин затих, ожидая с замирающим сердцем его обратного появления.
Малый Бухарец оставался в палатке очень долго. Что он там делал, – неизвестно; должно быть – созерцал. Когда вышел, на лице у него обозначались растерянность, обида и недоумение – словно бы там, в палатке, надевали ему на голову сапог и пытались накормить мылом. Опять подошел он к маленькому Насреддину, возобновившему свои вопли, опять, расставив руки, остолбенел, только теперь на его лице вместо блаженной улыбки отражалась какая-то смутная тревога ума. Он догадывался, что его провели, но каким способом – понять не мог.
С тем Малый Бухарец и удалился. А возле палатки уже были трое новых и громко ссорились – кому первому созерцать зверя.
Эти оказались подогадливее – последний, выходя из палатки, заливался безудержным смехом. А так как любому одураченному свойственно желать, чтобы все другие не оказались умнее, то эти трое ни словом не обмолвились следующим двоим, стоявшим у входа.
Созерцание зверя длилось весь день. Его созерцали купцы, ремесленники, приезжие земледельцы, даже многоученые мужи ислама в белых чалмах с подвернутыми концами. Его созерцали до кормления, когда он издавал звуки противные, и после печеночного кормления, когда он уже никаких звуков не издавал, а вылизывался и вычесывал из своей шерсти блох.