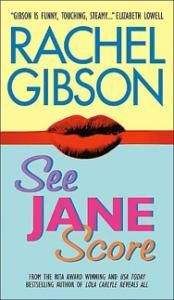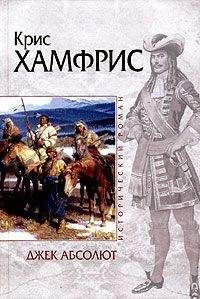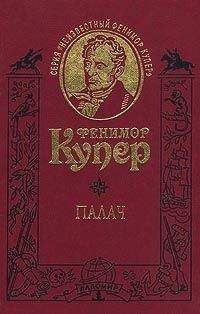Что-то в этом человеке показалось архиепископу знакомым. Джанкарло Чибо попытался заговорить, отдать приказ — но его голос звучал слишком медленно, искаженно и басовито. По сравнению с ним все остальные звуки казались нормальными: вопли на улице, вой на подоконнике, крики проклятых под тонкой коркой у него под ногами. Наконец архиепископу удалось выдавить из себя нужное слово:
— Геенеериххх!
Тот человек его услышал. Он начал поворачиваться — так же медленно, как звуки, приходившие к архиепископу.
При первом же взгляде на его обезображенную плоть Джанкарло Чибо завопил. Как и слова, вопль ворвался в замедлившийся мир, где время прекратило нормальный ход.
Генрих фон Золинген никогда не был красивым мужчиной, а слезы девственницы уничтожили почти все то, что оставалось в его лице человеческого. Однако теперь Чибо увидел нечто такое, что наконец синхронизировало его вопли со временем. Когда глаза Генриха повернулись так, чтобы устремиться на его господина, длинная змея выскользнула из пещеры одной глазницы и очень медленно переползла в другую.
Чибо перестал бежать только тогда, когда прижался спиной к городскому колодцу. На главной площади Марсхейма пламя сменилось льдом. Холод проник в его тело, подобно ледяным ножам, останавливая дыхание и выбивая из горла сосульки крови.
Что-то шевельнулось у него на груди. Он попытался опустить глаза, но оказалось, что для этого нужно сделать огромное усилие.
«Что может там оказаться, под складками моего плаща? — подумал он. — У меня там карман… Нет, кошель… Или… Да-да: мешочек! А в нем что-то лежит».
Он заставил свои глаза опуститься. У него на груди висел мешочек. Он был сшит из пурпурного бархата, однако при этом почему-то был совершенно прозрачным, потому что Чибо разглядел внутри указующую на него руку с шестью пальцами. И как только он ее увидел, рука сжалась в кулак и принялась бить его в грудь. И архиепископ Джанкарло Чибо понял, что этот стук не прекратится до тех пор, пока его сердце не разлетится на тысячу ледяных осколков.
— Иисусе, помилуй! — крикнул он, ощущая, как по его телу растекается мучительная боль.
На коже земли появилась трещина. Ад медленно разверзался перед ним, и каждый новый удар Английской Ведьмы загонял архиепископа все глубже. И остановить свое падение он не был в состоянии. Остались только эти удары — и жар, такой сильный, что у него начала расплавляться кожа.
— Иисусе! — снова воззвал Чибо, понимая, что это станет его последним словом.
Джанкарло Чибо бросил прощальный взгляд на дорогу — ту, что вела мимо монастыря и уходила в горы, на юг, к его родине.
На площадь выехали четыре всадника. Ну, хотя бы эту картину он ожидал увидеть: четырех всадников Апокалипсиса, которые явились возвестить конец мира. Их следовало приветствовать, ибо их появление означало, что спускаться в ад будет большая компания. Возможно, настолько большая, что дьяволу станет некогда заниматься каким-то жалким архиепископом. Однако и здесь крылось нечто неправильное. Из четырех всадников только двое должны были быть провозвестниками войны. А здесь, в Марсхейме, все четверо держали в руках оружие.
— А где мор? Где голод? — возмущенно крикнул им Чибо. И только потом понял, что совершил ошибку.
До этой минуты они его не замечали. А теперь заметили.
В том человеке, который спешился, было нечто знакомое. Чибо знал, что уже видел его. И когда этот человек протянул руку и снял у Чибо с груди руку Анны Болейн, тот понял, где именно они встречались. Он даже вспомнил имя.
— Ромбо! Жан Ромбо! — прохрипел Чибо.
Палач не подал вида, что слышит, он продолжал смотреть на бархатный мешочек. Он даже не взглянул на Чибо — просто выпрямился и пошел прочь. Это раздосадовало архиепископа. Он заслужил большего. Ведь он оставил этого человека гнить в виселичной клетке! Неужели он не достоин мщения?
— Убей меня! — Чибо вдруг обрел дар речи и начал говорить совершенно внятно. — Ты не можешь бросить меня здесь. Убей меня!
Палач не оборачивался, пока снова не сел в седло. А там он произнес что-то, чего Чибо до конца не расслышал. И потом все четверо всадников уехали с площади. Ад снова разверзся, и новые мольбы Джанкарло Чибо потонули в воплях проклятых.
* * *
Жан сказал вот что:
— Ты в аду. Зачем мне тебя освобождать?
Хакону и Джануку это было совершенно непонятно. Смертельный враг оказался в полной твоей воле — как можно упустить такой случай?
Жан не мог объяснить этого. В тот момент, когда он увидел Джанкарло, съежившегося у городского колодца, покрытого кровью и блевотиной, он подумал: «Здесь все закончится. Я использую мой меч — возможно, в последний раз в жизни, — чтобы отрубить голову нашему врагу». Однако его остановила сама Анна. Она не явилась к нему в блеске небесного света и даже не прошептала нечто в его мыслях. Он просто вспомнил слово, которое он произнес при ней; слово, которым он поклялся. Это воспоминание принесло с собой прикосновение отрубленной руки, которую он ощутил сквозь ткань бархатного мешочка. Той руки, которую он поцеловал и по поводу которой она сама пошутила. Та рука, которую он поклялся спасти от сил ненависти, воплощенных в человеке, скорчившемся у его ног.
Тем словом была «любовь». Жан вдруг понял, что, если он сейчас залил бы эту руку кровью — каким бы оправданным ни выглядело пролитие этой крови, каким бы благоразумным ни был такой поступок, — это противоречило бы духу клятвы королеве. Жан уже не раз обагрял свои руки кровью, пытаясь вернуть ее руку. И теперь он получил ее обратно, и это оказалось настолько легко по сравнению с тем, через что он уже прошел! И когда его долг был почти исполнен, ему захотелось вернуться к самой основе давней клятвы, к тому единственному слову. К любви.
Жан не мог объяснить этого своим друзьям. Он не отличался красноречием, а они, как и он сам, были воинами и не привыкли к подобным утонченным чувствам. Но тут ему в голову пришла новая мысль, которая заставляла его улыбаться, пока они покидали город, где все еще пылали огни святого Антония. Одним из преимуществ положения предводителя являлось то, что он не обязан никому ничего объяснять.
— А более безопасного пути ты не знаешь? — спросил Жан у Фуггера.
Они уже три дня ехали по главной дороге, которая вела из Марсхейма на север. Три дня — а они едва смогли пересечь границу Баварии, да и то лишь благодаря тому, что Жан с Хаконом вспомнили кое-какие католические молитвы. Их хватило, чтобы убедить большой отряд стражников в том, что они — не еретики-лютеране.
По другую сторону от границы, в Вюртемберге, они в тот же день вынуждены были доказывать свою принадлежность уже к другой вере. И на площади маленького городка Фуггеру пришлось пересказывать учение Маленького Монаха недовольным и подозрительным подмастерьям.