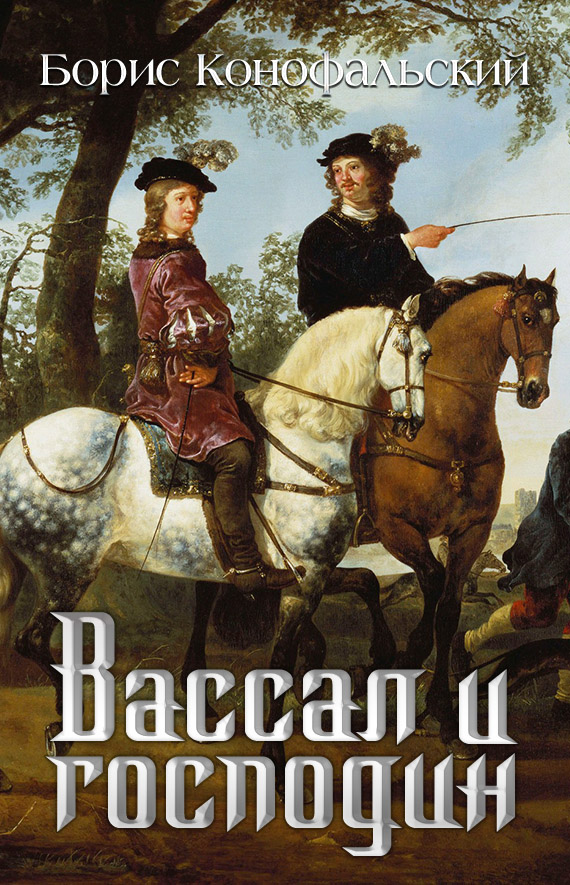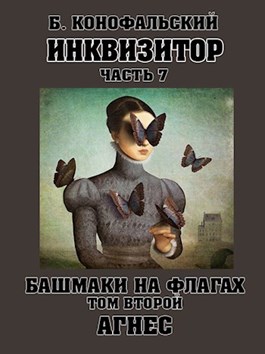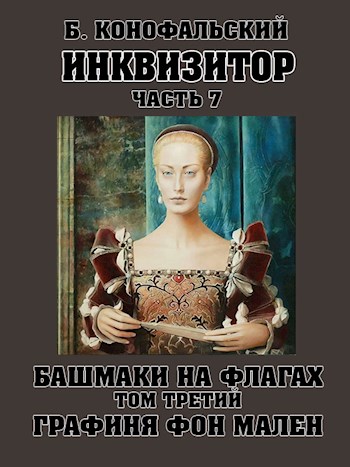за воротами двора солдаты собрались. Улица людьми забита. Кажется, все здесь собрались. И тут кавалер вспомнил, что сегодня день расчета. День дележа добычи. Пришли за деньгами.
Он стоял почти на пороге, когда мимо него, бочком — бочком протискивалась госпожа Ланге, неся простыни в комок завязанные.
И она тихо сказал ему слова, от которых он вдруг ожил сразу:
— Госпожа Эшбахт не обременена.
Сказала, и пошла к сараям. А ему потребовалось время, чтобы понять смысл этих слов.
Гора с плеч. По-другому и не скажешь. И причем самая большая гора. Самая тяжкая та, что пригибала до самой земли. И вот нет ее.
Не обременена! Чисто чрево ее. Значит, для Сыча дела нет. И слава Богу, что без него все обошлось. Сыч, человек безжалостный. Он легко придушил-бы новорожденного младенца, роди госпожа Эшбахт мальчика. Придушил и опять в колыбель положил, словно само чадо померло. И спать пошел бы спокойно, перед этим заглянув к Марии на кухню, поесть чего-нибудь. Но сам Сыч ничего бы делать не стал. Отдавать приказ о душегубстве, о детоубийстве, пришлось бы ему, Волкову. А ему страсть как не хотелось бы такие приказы отдавать. Не хотелось. Он за свою жизнь и так людей поубивал в избытке. Но детей среди них не было. Но тут, случись нужда… Он бы не задумался ни на секунду.
— Хорошо, — тихо сказал кавалер, и глянул в след уходящей рыжей красавице. — Спасибо, госпожа Ланге. За весть добрую будете вознаграждены.
Брат Семион, словно с ума сошел, на дом свой все деньги потратил, что у епископа на костел выпросил. Из двух тысяч двухсот отличных серебряных монет чеканки земли Ребенрее, на дом свой потратил он уже тысяча семьсот, и опять пришел брать деньги.
— Куда же ты их деваешь? — спрашивал Волков, думая, а не прячет ли монах часть их для себя.
— Закажу изразцы для печей. Мастер приехал, готов по божеской цене мне все печи обложить изразцами.
— Уж не князем ли Матери Церкви ты себя возомнил? — усмехался Волков. Но деньги ему давал.
— Так всю жизнь жил в святой простоте, хочется радости для глаз и сердца, — смирено отвечал монах, забирая деньги цепкой рукой.
Ничего, пусть строит, пусть старается. Волков не жалел денег епископа. Лишь бы горцы все эти старания монаха не спалили. Он опять усмехался и снова спрашивал:
— А на что ты будешь костел возводить? Скажи-ка мне, святой человек.
— Да уж коли Бог не оставит, так сыщу на что, — отвечал монах, пряча серебро под сутану.
Волков понимающе покивал, настроение после доброй вести у него было хорошее:
— Ну-ну, только не забывай монах, что на приход в Эшбахт тебя епископ назначил по моей просьбе, ты уж меня не подведи, друг сердечный.
— Не подведу, господин, не подведу, — все так же беззаботно отвечал брат Семион, спускаясь по лестнице на первый этаж, — денно и нощно молю Бога, чтобы разрешил вопрос с костелом.
Волков сундук закрыл и спустился за монахом следом. А там, внизу, за столом, все женщины его — госпожа Эшбахт, ликом сумрачна сидит. Сестра Тереза старается не злить ее еще больше. Госпожа Ланге, украдкой косится на кавалера. И племянницы тут же. Все занимаются рукоделием. Вышивают. Мария и две бабы дворовые готовят обед. На дворе офицеры и старшины солдатские считают серебро. К ним он идти не захотел. Народу слишком много. Суета.
Свое серебро он уже получил.
Сел за стол на свое место. А пока к нему шел, так жену свою ласково тронул, за руку. Та взглянула на него недобрым взглядом, в глазах нелюбовь. А он ей улыбнулся в ответ.
Зато младшая племянница ему всегда рада была, бросила рукоделие свое, хоть и мать ее окликнула, не послушалась, пошла к дяде на колени. Стала говорить ему, что теленок бодал ворота.
Дядя кивал, а сам поглядывал на госпожу Ланге украдкой, и та, ловя его взгляд, краснела, и глаза опускала к шитью.
— Мария, ну скоро там у тебя обед? — крикнул он.
— Свинину уже ставлю жарить, — отвечал служанка.
— Ты не забыла? Сегодня господа офицеры будут!
— Да разве про них забудешь, они тут уже с утра со своими солдатами, — за служанку отвечала госпожа Эшбахт. — На двор не выйти.
Опять она была недовольна. Но Волкова это мало волновало.
Главное, чтобы обед побыстрее подавали.
Первый раз Волков увидал, что Максимилиан выпил много вина.
Он сидел в конце стола с Увальнем до самого вечера. И пили почти наравне с офицерами. Наверное, от радости. Максимилиан Брюнхвальд и Александр Гроссшвулле получили свои доли за рейд в Милликон. И если Гроссшвулле получил долю сержантскую, то Максимилиан получил долю прапорщика, двести сорок монет, деньги для юноши немыслимые. Они оба все тосты за офицерами поднимали. И к ночи были совсем навеселе.
Жене кавалера все эти офицерские пирушки не полюбились сразу.
Сестра кавалера, Тереза, сидела чуть покраснев. Жена Карла Брюнхвальда тоже довольна была. Госпожа Ланге раскраснелась и цвела. Пила и смеялась вместе со всеми. А вот дочь графа сидеть за столом со всеми не хотела. Поела, попила, посидела немного, а как стемнело на дворе, так сказала, вроде как Волкову, но так чтобы все слышали:
— Спать пойду, вы тоже, господин мой, не засиживайтесь, гостям скажите, что надо честь знать.
— Скажу-скажу, — обещал Волков. — Не засидятся гости. Ступайте почивать, жена.
Но она еще по лестнице понималась в покои, а он уже на Бригитт смотрел, смотрел и любовался ею. Та как раз смеялась над шуткой веселого Бертье. Главного весельчака за столом. И тут на кавалера взгляд бросила. И как увидала его глаза, что ее поедом ели, и даже испугалась. Глаза его были пьяны и алчны. От взгляда этого она еще сильнее покраснела, смеяться перестала, стала на себя руками махать, чтобы не так ей жарко было. Потом хотела стакан взять, да не схватила, опрокинула стакан на стол. Вино пролила под веселые шутки, стала стакан поднимать. Все смеялись, и она тоже. Сама стакан подняла, держала его, пока ей Рене вина наливал, на Волкова косилась. А он не смеется, кажется, один за столом, он глаз от нее не отрывает.
И Бригитт Ланге еще сильнее стала волноваться. Кажется, так сильно, что только в молодости, давно так же волновалась.
Потом с госпожой Брюнхвальд и госпожой Терезой они выходили на улицу. Подышать, в дому уже слишком жарко стало. От жары могло нехорошо стать. И вот когда они уже