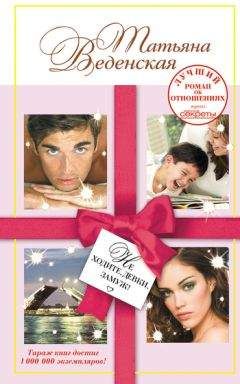Завывая, приплясывая, падера металась и над деревенской округой, над бором, обламывая сосновые ветки и густо устилая ими заснеженную землю.
А здесь, под невидимым покровом, царила благостная тишина, как в пустой церкви, воздух стоял недвижимым, и грива белого коня даже не шевелилась, когда он шел в поводу, размеренно переставляя точеные ноги, следом за Марией-младшей. Шли они навстречу Варваре Нагорной, которая, еще обметанная снегом, стояла, дожидаясь их, и переводила сбившееся дыхание, поправляя пуховый платок.
Мария подошла к ней, обняла и, не выпуская из кольца сомкнутых рук, тихо сказала:
— Хорошо, что пришла, я уж опасалась, что в непогоду не дойдешь… Я теперь, Варенька, одна осталась… Мамы больше нет, вот и позвала тебя… Мне твоя помощь понадобится…
— Я знаю, — отозвалась Варя, — я все знаю и сделаю, что в моих силах, обязательно сделаю, ты не печалься.
— К новым временам нужно готовиться, они уже наступили — черные времена. Я их вижу.
Варя больше ничего не сказала, лишь крепче обняла Марию-младшую, словно хотела оборонить и защитить ее от неистовой падеры, которая безумствовала за пределами покрова.
Они стояли, обнявшись, молчали и еще не видели, что прямо над ними застыла в неподвижном воздухе старая икона и живые, страдающие глаза Богородицы были наполнены слезами грядущих, уже наступивших дней.
К середине сентября сорок четвертого года в Журавлихинской МТС осталось пять ходячих тракторов.
В это же время директора МТС, Семена Кирьяныча Архипова, окончательно доконал ревматизм. Пришлось ему снимать сапоги и залезать в старые катанки, обшитые кожей, но и это не помогло, боль грызла суставы, они щелкали, и легче не становилось даже во сне. Сегодня утром он особенно долго сползал с кровати, выпрямлялся, морщил узкое лицо с выбоинками от оспы и в контору пошел, заметно согнувшись.
По дороге Семен Кирьяныч немного размялся, приподнял голову и бабенок, которые заявились в контору следом за ним, встретил строго. А встали у него перед столом замужняя Серафима Забанина, холостая Нюрка Орехова и совсем молоденькая, семнадцать стукнуло, Маруська Лямкина. Они молчали, глядели в пол.
— Вот так. Знаю, что две недели дома не были, умаялись, — все знаю. А Дальний клин надо спахать. Сколько вы там ковыряться будете — день, неделю, три — без разницы. Но спашите! Зяби не будет — пропал клин. Весной ни у нас, ни у колхоза сил не хватит. Вон уже сколько земли побросали. Понятно? Дошло?
— Семен Кирьяныч, у меня парнишка зашибся, — чуть вперед выступила Серафима. — Мне денек бы, в больницу.
— Бабка свозит.
— Да она ж в небо горбом смотрит.
— Хватит! — заорал Семен Кирьяныч. — Ты мне посаботируй, я тебя живо! Чикаться не буду. Седни после обеда чтоб духу не было. Ну, какого стоите?!
Серафима зло плюнула и широко, по-мужски, растерла плевок сапогом:
— А чтобыть вам всем!
И первой подалась из конторы.
— Черт топтаный, — ругалась Нюрка, когда они уже шли по двору. — Не могла его мать маленького в кадке утопить.
Маруська, не сказав ни слова, и теперь молчала. Она на ходу задремывала, запиналась, и всякий раз голова ее на вытянутой тонкой шее дергалась вперед, а платок, слабо завязанный, сползал на глаза. Рядом с Серафимой и Нюркой, а они были широкой кости, уже ломаные в работе, она казалась заморенным птенчиком, который вывалился из гнезда, пурхается и не то что лететь, на ноги твердо встать не может.
— Ты, Манька, поспи хорошенько, — посоветовала Серафима. — А то опять на плуге сморит, голову еще срежет.
Такое уже было. Маруська на прошлой неделе, когда они с Серафимой пахали в ночь, задремала, и так сладко, быстро — слюнки изо рта потекли, — что кувыркнулась с плуга, а лемех прошел совсем рядом. Сейчас, вспомнив об этом, даже передернулась от острого холодка, и сон вроде отстал. Прибавила шагу.
— А с парнишкой чего случилось? — вдруг вспомнила Нюрка. — Или ты так брехнула, для случая?
— Кого там — брехнула! Чуть сама не зашибла. Ночью-то вчера приехала, притащилась домой — ни рук, ни ног. Мать на моей кровати спит, не стала трогать, к Лешке прямо на топчан пала. И надо ведь, приснилось, будто головку с мотора сымаю. Помню, все по порядку делала: сначала болты выкрутила, потом сдвинула, тяну на себя, чтоб на землю не бросить, да боюсь, как бы за колесо не задело. И так тяжело мне, спасу нет, прямо дрожит все в животе. Бросила, слышу — рев. Зенки-то разлепила, понять ничего не могу, потом дошло. Я Лешку-то во сне раздела догола и фурнула на пол. Он, бедный, затопился, аж посинел. И ручонку, видать, сильно зашиб, разбарабанило вот так.
— Скоро совсем рехнемся с этим железом. Виском бы стукнулся — и нет ребятенка.
Нюрка неторопливо и длинно выругалась. Ругалась она заковыристо, с коленцами и всегда после этого надолго замолкала. Свернула в проулок, к себе домой. Захлюстанный, грязный подол юбки бился о серые голенища сапог. Но ни подол, ни сапоги, ни старая фуфайчонка не могли отяжелить легкую, невесомую поступь ее молодой, еще не согнутой фигуры.
Разошлись по домам и Серафима с Маруськой. До обеда времени осталось всего ничего, а после обеда надо было уже выезжать.
Снова их ждал трактор. Стоял он один-одинешенек на краю эмтээсовского двора, а под ним, в тени, отдыхала чья-то неказистая собачонка. Выпущен был этот колесник еще до войны, на Харьковском тракторном заводе, потом проехал на поезде от Украины до Сибири, попал на этот двор и радовал всех свеженькой краской, шипами на задних колесах, которые при солнце весело поблескивали зайчиками, радовал, когда, поплевав из трубы дымом, далеко разносил вокруг веселый треск. Никто в ту пору не мог знать, что придет время, и слезет с него краска, сам он почернеет и обшарпается, а главное — будут его чуть не каждый день ремонтировать, чтобы подольше подержать на этом свете, с которого трактору давно пора было уходить.
Стоял он, остывший с ночи, с мазутными потеками, обшарпанный, и ждал. Серафима, а следом за ней Нюрка и Маруська подошли к нему и в раздумье остановились, оттягивая ту минуту, когда надо будет его заводить. Заводился он плохо — одна маета. Но на этот раз вовремя подъехал и выручил Тятя.
Он остановил неподалеку лошадь, долго смотрел, потом вразвалку, помахивая короткими, литыми руками, подался к ним. Тятя был молодым, здоровенным парнем, но дурачком, тем самым, без которого ни одна деревня обойтись не может. Смиренный по характеру, как телок, он ни на кого не обижался и давно мечтал жениться на учительнице. Сколько раз сватался и в своей Журавлихе, и в соседних деревнях, но молодые учительницы почему-то дружно ему отказывали. В нынешнее время Тятя был незаменимым, любую работу делал хоть и бестолково, но безотказно, а больше всего любил заводить трактор.