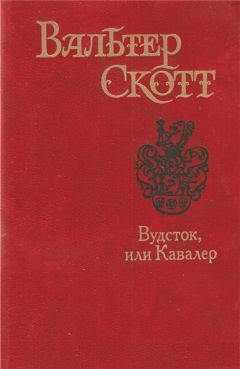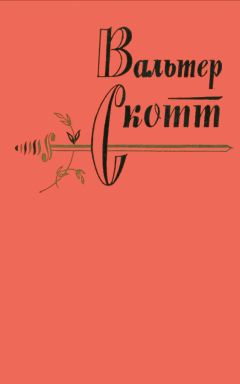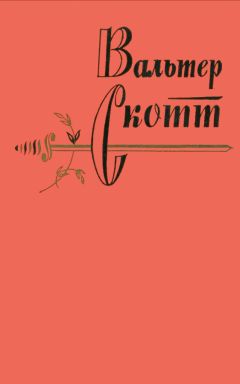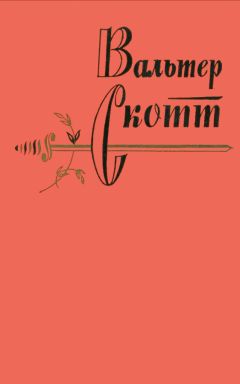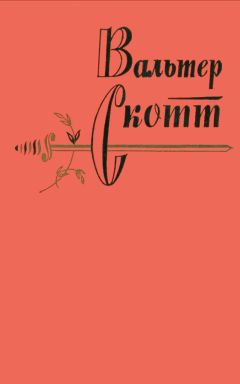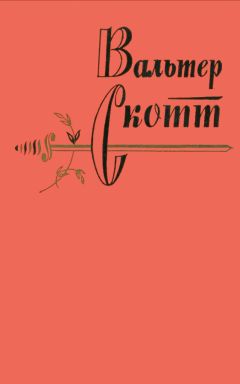Он передал Альберту свечу с непринужденной небрежностью вельможи — он как бы оказывал милость, а не доставлял затруднения, требуя такой пустячной услуги. Альберт с видом величайшего почтения взял на себя роль факелоносца и держал свечу перед своим пажом, не поворачиваясь к нему спиной, пока тот шел по спальне. Потом он поставил подсвечник на стол у изголовья кровати, приблизился к юноше и, низко поклонившись, принял от него грязную зеленую куртку с таким глубоким уважением, как будто он был первый лорд-камердинер или другой придворный и помогал своему монарху снять мантию. Человек, к которому относились эти почести, минуту-другую принимал их с глубокой серьезностью, но затем, прыснув со смеху, воскликнул:
— Черт побери! К чему такие церемонии? Ты носишься с этими жалкими лохмотьями, как будто это шелка и соболя, и с бедным Луи Кернегаем, как будто он — король Великобритании.
— Если согласно приказанию вашего величества и по воле обстоятельств я должен был на некоторое время забыть, что вы — мой государь, то мне, конечно, позволительно воздать вам почести, подобающие монарху, пока вы находитесь в вашем собственном королевском дворце в Вудстоке?
— Правда, — ответил переодетый монарх, — дворец как раз под стать государю, эта рваная кожа на стенах и моя ветхая куртка изумительно подходят друг к другу. Неужели это Вудсток? Неужели это тот дворец, в котором царственный норманн пировал с прекрасной Розамундой Клиффорд? Да ведь это прямо место для слета сов!
Затем он вдруг опомнился и, как бы испугавшись» что оскорбил чувства Альберта, добавил со своей обычной любезностью:
— Но чем он заброшенное и уединеннее, тем больше он отвечает нашей цели, Ли, и если он похож на совиное гнездо, чего нельзя отрицать, то ведь мы знаем, что в нем вырастали орлы.
С этими словами он бросился на стул и небрежно, но милостиво принял заботливые услуги Альберта, который расстегнул ему грубые застежки кожаных гамаш; тем временем принц говорил:
— Какой прекрасный образец людей старого закала ваш отец сэр Генри! Странно, что я не видел его раньше; зато я часто слышал от моего отца, что он принадлежит к цвету настоящего старинного дворянства Англии. По тому, как он начал меня обучать, я угадываю, что он вас строго воспитывал, Альберт; в его присутствии, уверен, вы никогда не надевали шляпу?
— Во всяком случае, при нем, если вашему величеству угодно знать, я никогда не заламывал ее набекрень как делают теперь некоторые юнцы, — ответил Альберт. — Для этого шляпу мне пришлось бы носить из очень толстого фетра, иначе голова моя была бы разбита.
— О в этом я не сомневаюсь, — сказал король, — чудесный старик, но мне кажется, по лицу его видно, что он не стал бы жалеть розог для своего сына. Послушай, Альберт. Предположи, что настанет эта самая славная реставрация, а если тосты могут ее ускорить, она должна быть не за горами, потому что в этом отношении наши приверженцы никогда не пренебрегают своим долгом; ну, так предположи, что она настанет, и твой отец, как ему и подобает, получит титул графа и станет членом Тайного совета, — ей-богу, дружище, я буду бояться его так же, как мой дед Генрих Четвертый боялся старого Сюлли. Представь себе, что при дворе появится такая штучка, как прекрасная Розамунда или La Belle Gabrielle[37]: вот будет задача для пажей, лакеев и камердинеров — им придется незаметно выпроваживать хорошенькую плутовку с черного хода, словно контрабанду, всякий раз, как в передней послышатся шаги графа Вудстока!
— Я рад видеть ваше величество таким веселым после столь утомительного путешествия.
— От усталости нет и следа, друг мой, — сказал Карл, — гостеприимство и хороший ужин все сгладили. Но твои родные, наверно, вообразили, что ты привел с собой волка с Баденохских холмов, а не двуногое существо, вмещающее обычное количество пищи. Мне, право, было стыдно за свой аппетит, но ты-то знаешь, что я уже целые сутки ничего не ел, кроме сырого яйца, которое ты стащил для меня в курятнике у той старушки; право, я краснел за свою прожорливость в присутствии такого благовоспитанного и уважаемого старого джентльмена, твоего отца, и прелестной девушки, твоей сестры или кузины, — кем она тебе приходится?
— Она мне сестра, — сухо сказал Альберт Ли и тут же добавил:
— Аппетит вашего величества был как раз под стать неотесанному северянину. Угодно ли теперь вашему величеству отойти ко сну?
— Подождем минутку, — сказал король, не вставая со стула. — Да, приятель, язык мой весь день был на привязи, мне пришлось гнусавить, как северянину, а кроме того, очень утомительно каждое слово произносить с акцентом, — черт возьми, да это все равно что ходить, как галерные каторжники, по земле с двадцатичетырехфунтовым ядром на ноге; тащить его они кое-как могут, но двигаться им трудно.
А между прочим, ты скупо отдаешь мне вполне заслуженную дань похвал за мое перевоплощение. Разве я не здорово сыграл роль Луи Кернегая?
— Если вашему величеству угодно знать мое искреннее мнение, быть может, мне будет простительно сказать, что ваш говор был грубоват для знатного шотландского юноши, и вы казались, пожалуй, слишком уж неотесанным. И, по-моему, хотя я в этом и не большой знаток, некоторые шотландские слова звучали у вас не совсем правильно.
— Не совсем правильно? Тебе не угодишь, Альберт. Кому же и говорить на настоящем шотландском наречии, как не мне? Разве я не был их королем целых десять месяцев? И уж не знаю, какую мне это принесло пользу, если я даже не выучился их языку.
Разве восточная страна, и южная страна, и западная страна, и Хайленд не каркали, не квакали и не визжали вокруг меня, причем по очереди преобладали глубокое гортанное, грубое протяжное произношение и высокий, пронзительный лай? Черт возьми, друг мой, разве их ораторы не произносили передо мной речи, разве ко мне не обращались их сенаторы, разве их священники не читали мне нравоучения? Разве я не сидел на покаянном стуле, друг мой, — тут он опять заговорил на северном наречии, — и только благодаря благосклонности достойного мистера Джона Гиллеспи мне разрешили нести покаяние у себя в комнате, вместо того чтобы каяться перед всей общиной?
И после этого ты станешь утверждать, что я недостаточно хорошо говорю на шотландском диалекте, чтобы сбить с толку оксфордского баронета и его семью?
— Разрешите напомнить, ваше величество, я прежде всего сказал, что не могу быть судьей в отношении шотландского наречия.
— Стыдись, в тебе говорит только зависть; у Нортона ты заявил, что я был слишком вежлив и любезен для молодого пажа, а теперь считаешь меня грубоватым.