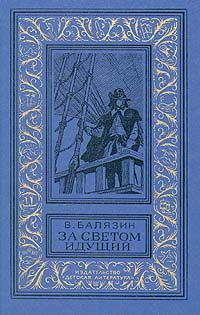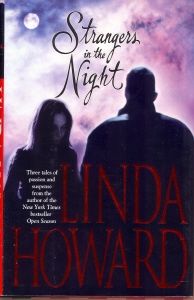Мать игуменья терпеливо выслушала сбивчивый рассказ Соломониды о ее горе.
— Велики грехи сына твоего, сестра, — сказала игуменья. — Много молитв надо будет вознести господу, чтоб замолить малую толику содеянного им.
Так в Новодевичьем монастыре появилась старица, принявшая в монашестве имя Стефаниды.
Анкудинова схватили в Голштинии. Голштинский герцог Фридрих сам явился в тюрьму поглядеть на диковинного беглеца, чтобы решить, какую мзду следует запросить у русского царя за его бывшего подданного.
Тимоша был худ, оборван и грязен. Он знал, что государевы тайные люди идут за ним по следу, и потому не назвал себя ни Анкудиновым, ни Шуйским. Он назвался Демьяном, не помнящим родства, бежавшим из Пскова от страха перед казнями князя Хованского.
Герцог пожевал бескровными губами, постоял, склонив голову к плечу, и ушел, не сказав ни слова.
Однако он понял, что русский, столь хорошо говорящий по-немецки и даже вставивший в разговор латинское изречение, конечно же, не тот, за кого себя выдает.
Фридрих приказал строго стеречь узника и отправил во Псков гонца, чтобы известить воеводу о попавшем в его руки пленнике. Однако еще по дороге гонец узнал, что в Кенигсберге какие-то люди раздавали листы и много раз кричали на рынке и у ратуши о некоем русском человеке, бежавшем из Москвы с государевой казной и побившем многих честных людей.
Приехав в Кенигсберг, гонец пошел к ратуше и на дверях ее увидел лист, в коем извещалось, что тот беглец «волосом чернорус, глаза разноцветные, и нижняя губа поотвисла немного».
В листе у гонца описание было точно таким же. Повернув коня, он помчался обратно, расспрашивая по дороге, куда проехали шестеро русских.
Нашел он их довольно быстро, потому что в каждой деревне, и в каждом городе, и в корчмах, и на постоялых дворах рассказывали те люди всем, кто им попадал на пути, об одном и том же: о беглом русском разбойнике и о наградах, которые ждут любого за его поимку. В польском городе Гданьске гонец настиг русских.
Их начальник — Петр Микляев — сносно говорил по-немецки, и гонец легко объяснил, какая забота привела его к нему.
Толстый, широкоплечий Микляев, вначале важно взиравший на гонца, аж подпрыгнул от радости и закричал неожиданно высоким бабьим голосом нечто непонятное, заставившее гонца подумать, что, наверное, именно так кричат татары, когда к ним на аркан попадает хорошая добыча — будь то добрых кровей конь или богатый пленник.
Через десять дней Микляеву показали пленника.
Оскалив зубы и вытолкнув из бочкообразной груди воздух, Микляев произнес только одно слово:
— Он.
Тем же крестным путем, каким недавно прошел Костя, надлежало пройти и Тимофею.
Везли его в открытых санях, еле одетого, и Микляев выходил к нему из крытого теплого возка, чтобы покуражиться над арестантом и — в который уж раз! — подробно рассказать, как пытали Костю и как будут пытать его.
Перед самой Москвой Тимофей выполз из-под веревок, которыми привязали его к саням, и бросился на дорогу — под копыта скачущей следом тройки. Однако и тут ему не повезло. Возница ловко свернул в сторону, и его лишь задело одним полозом, порвав зипун и переехав ногу.
— Легкой смерти ищешь, вор! — неистовствовал Микляев, по-волчьи скаля зубы и пиная ногой скрючившееся на дороге тело. — Вяжи его, ребята, как мамка пеленала! — визжал Микляев.
Ему не пожалели пинков, зуботычин и веревок и, накрепко привязав к саням, повезли дальше.
Никто не встречал его у стен Москвы. Накинув на него рогожи и заткнув в рот кляп, чтоб не кричал, ранним утром 28 декабря 1653 года его ввезли в Москву.
Он лежал ничком, на животе — так измыслил Микляев — и подбородком отсчитывал все рытвины и ухабы московских улиц.
Первое, что он увидел, когда сдернули с него рогожи, — черный дверной проем и в нем известного всей Москве безносого палача Федьку, по прозвищу Гнида.
Палач что-то сказал ему, но Анкудинов не расслышал, и Федька, ярясь, хватил его кулаком по лицу. Тимофей упал, но его тут же подняли и, схватив под руки, поволокли в застенок.
Государь призвал Петра Микляева к себе, в жилую палату, и, ласково глядя, слушал бахвалистые Петькины речи. И хоть привирал Микляев без меры, государь его не перебивал и внимал его рассказу с видимым удовольствием.
Хлопнув в ладоши, призвал из соседней горницы бывшего при нем стольника и сказал распевно, ласково:
— Вели всем боярам тотчас же идти к пытке. А сему молодцу вели дать тридцать рублей. — И, поглядев на стоящего столбом Микляева, добавил: — И сапоги сафьянные по ноге.
Микляев бухнулся в ноги и проговорил страстно:
— Дозволь, батюшко царь, и мне, худородному, при пытке быти. — И так как царь молчал, ноюще прибавил: — Я, государь, писать горазд. Все воровские скаски напишу и вора во лжи уличить помогу.
Государь поскучнел очами и, махнув рукою, промолвил:
— Иди, Микляев, иди, усладись.
Вор Тимошка висел на дыбе, над костром, почти бездыханный, но говорил мало.
Тогда привели второго вора, Костку, и подняли на дыбу насупротив.
Оба супостата, взглянув друг на друга, заплакали.
Петр Микляев, увидев все это, отложил перо в сторону и, повернувшись к скамьям, на коих сидела добрая дюжина бояр, произнес насмешливо:
— Хотят воры костер слезами залить. Да много слез будет надо, чтоб то свершить.
Безносый палач зыркнул на Микляева пустыми страшными глазами, прошипел змеем:
— Пиши, паскуда, скаски, а зубы не скаль.
Микляев замолк, скрипя пером. Вскоре писать ему стало скучно. Воры тяжко дышали, скрипели зубами, глухо стонали.
Дьяки, вершившие допрос, хорошо понимали, что ничего важного у воров узнать не удастся. Сколько лет прошло, как бегали супостаты, скитаясь? Дела украинские, благодарение господу, успешно завершались: нынешней осенью Земский собор принял Малороссию под высокую руку пресветлого государя Алексея Михайловича. Ныне у Хмельницкого сидел великий государев посол боярин Бутурлин, склоняя казаков подтвердить соборное решение согласием Рады. Что могли сказать о делах малороссийских Тимошка да Костка, когда они от гетмана ушли почитай три года назад?
И от семиградского князя ушли воры тому более двух годов. А что до свейской королевы, то о ее делах откуда ворам было знать доподлинно?
И потому спрашивали государевы дьяки, чтобы видимость соблюсти: пытаем-де ради неких тайных дел.
А дел-то никаких и не было.
И не пытали их — мучили. И потому Микляев почти ничего не писал, а в конце мучения, откинув в сторону перо, сказал виновато, повернувшись к ближнему от него дьяку: