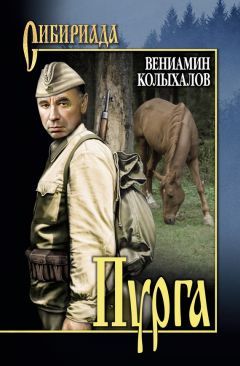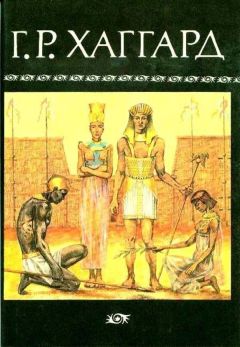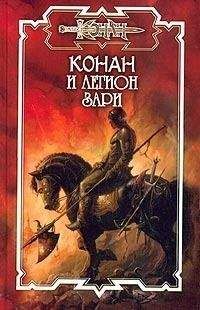В восемь лет Груня умела ставить сети, фитили. Стреляла из ружья, настораживала капканы. Коптила мясо и рыбу. За черемшой, грибами, ягодой мачеха брала ее постоянно. В тот день она шла за черникой вместе с бабьим скопом. К черничному месту добирались по ломким беломошникам. Ягода уродилась мелкая, редкая. Зной, истомная багульниковая духота, прокудливая обильная мошкара мешали сборщицам. Груня нехотя срывала приплюснутые с макушек черничинки, для утоления жажды бросала в рот. «Жри меньше! — напустилась мачеха-злыдня. — Дно ведерка не скрылось, она в рот да в рот. Воткни сучок в зубы, мусоль языком — помогает от жратья». Падчерица хотела отворчаться по-остяцки — жадина, но промолчала. Потянув чутким носом, уловила со стороны сосняка запах дыма: пахло хвойной гарениной. Сизые слоистые дымки начинали потихоньку приползать к сухому болотцу.
Мачеха зашмыгала угреватым носом, завопила: «Ба-бы! Урман горит!»
Сборщицы вскрикнули, заахали, закрутили головами, пытаясь определить чутьем, откуда наползает дым, где главный очаг огня. Неожиданная напасть заставила забыть о ягоде, берестяных кузовах и ведрах. Представили со страхом: огонь с каждой минутой отрезает путь к Тихеевке. Отчего разыгрался пожар? Грозы не было, молнию не завинишь. Лес мог загореться от тлеющего патронного пыжа, но не раздавались выстрелы. Среди ягодниц водились заядлые курильщицы. Смолили дорогой самокрутки. Кто-то швырнул на мох непотушенный окурок, натворил беду. Набросились на табашниц, облили злобой слов. Переполох усиливался. Предлагали отсидеться в болоте… обойти пожар стороной. Где та сторона — никто не знал.
Дымы струились меж стволов, наползали на черничное болотце. Издалека доносился слабый треск, будто в присмирелом бору лопались переспелые стручки гороха. Груняша боязливо жалась к мачехе. Получила толчок в плечо: «Отцепись! Без тебя тошно».
В зимнем лесу огонь зажженной спички высветил далекое былое. Перепуганные сборщицы черники выходили к Пельсе поздно вечером, делая многокилометровый круг в огиб неутихающего пожара. Он летел поверху и понизу, в две могучих тяги тянул всесокрушающий огненный воз. Неожиданно нанесло ветром плотный дым. Стали плохо различимы деревья и люди. Зааукали, застучали по ведрам и стволам — металось в дымном аду игривое эхо, заманивало в разные стороны. Кое-где из едкой тьмы высовывались оранжево-красные дразнящие языки пламени. Груняша не ощутила, когда ее ручонка выскользнула из мачехиной потной руки. Девочка испуганно закружилась на одном месте. С истошным криком побежала на темное пятно. Уткнулась лицом в чей-то разорванный подол. Вцепилась и шла, спотыкаясь, скуля от ушибов.
Выбрели из дыма, скричались, саукались. Груняшиной мачехи не оказалось в кучке переполошенных баб. Долго искали ее, не отходя друг от друга далеко. Охрипли от крика. Опаленный бор не выдавал тайну…
Отец не искал дочке новую мать. Бобыльничал, охотился, старел. С каждым охотничьим сезоном хуже видели его гноящиеся трахомные глаза. Подошло бедовое для таежника время: стал стрелять вместо соболей белок по веткам. Не мог усмотреть летящего по белотропью зайца…
Рыбачка принимает от Валерии толстый окурок, сильно затягивается: вспыхивает газетная закрутка. Аггей постреливает глазами по сторонам: не заметили бы, как бражничает тихеевский спарок. Начальство не будет выяснять — за московскую битву пил или за Христа. По военному времени и со стариков спрос. Праздники урывками достаются. Будить начинают ранние будни позывными крикливых петухов. Только мертвых не поднимут на лесоповал. С живыми справляются живо.
Теплит грудь молодая бражонка, снимает устаток со стариковского тела. Вот выкроили короткое время посидеть у нового пня, разговелись свежей налимчатинкой — и славно. Можно дальше норму ломать, сворачивать ей крутые рога за мерный ржаной паек. Сейчас застучат повеселелые женщины в два топора, примутся отсучковывать литую стволину.
Вороха мерзлой хвои придавливают сушняк, поставленный шалашиком: готов костер для завтрашнего утра. Поднесут пучок бересты, вспыхнет спичка, родит новый светильник. Ранний, досолнечный свет даст пильщикам возможность упариться на валке до восхода. Старик снял с сучкорубовских топоров тонкую фаску, мудрено заострил их: теперь сталь не крошится на сильном морозе.
У пня Валерия не выкроила время для песни. Она подкатывалась к языку, замирала на кончике. Разговоры за кружками, боязнь быть услышанной трудармейцами других бригад мешали озвучить растревоженную душу. Неизвестность об отце, похоронка на мужа, тыловое бремя неубывного труда тяжелым гнетом выжимали из сердца песенную тоску. Найденная отдушина помогала выпускать потихоньку скопленное горе. Наука петь сквозь слезы давалась женщине легко. Под аккомпанемент топоров и лучковой пилы крепкожильного деда Валерия затянула хрипловатым речитативом:
Шли-прошли обозы великие.
За обозами солдаты боевые.
За солдатами матери родные.
С матерями жены молодые.
— Не тужите, наши жены молодые,
Не тужите, наши матери родные.
Чисто поле вам кручиной не засеять.
Сине море вам слезами не наполнить…
Вальщик расправляет спину, прислоняется к стволу и правит на толстой коре онемелую поясницу.
— Эй, ку-маа, взреви чего-нибудь повесельше.
— Можно и повеселее:
Возле реченьки ходила,
Слезно реченьку просила:
— Пусти, реченька, пожить,
Надоело мне тужить.
— Груня, пощекочи топором неуговористую куму. Огонь надо водой заливать, кручину вином и ладной песней.
— Ла-а-адной?! Кто их наладил для нас? Из-под кнута живем, пням молимся, родню теряем.
Аггей подошел к женщинам, стал отбрасывать громоздкие ветки от ствола.
— Нынче, кумушка, главное: родину не потерять. На нашу страну враги давно хомут примеряли.
Топоры упорно отсекали сучки и запальчивую стариковскую речь.
Валерия осмысливала суровую правду слов: нынче главное — родину не потерять. Другие слова проносились мимо сознания. Эти затмили все. Заставили со стороны взглянуть на личное горе. Оно растворилось каплей в реченьке слез, о которой недавно пела страдающая душа. Много матерей, жен, сестер бедуют сейчас. Кто-то от кручины оплавляется свечой. Кто-то пытается наложить на себя руки — сокрыться в землю, в воду. Подплывали обжигающие мыслишки и к Валерии. Убрала с глаз долой веревку-копенницу. В дальний угол обжитого тараканами шкафа засунула пузырек с уксусом. Услышала в себе властный голос отца. Корил дочь за хилую волю, приказывал жить и своим чередом дожидаться смертного часа… Пришел ли к тебе, Панкратий, роковой час? Или удается водить за нос изменчивую судьбу? Поплатился за горячность, за хлесткую правду. Деревня потеряла толкового кузнеца. До сих пор промышляют в Тихеевке медведей и лисиц его самоковочными капканами. Не все выкованные Панкратием подковы истерлись на лошадиных копытах. Согнули власти мужика в подковину. Куда заперли-затерли? Где искать ходы-выходы?