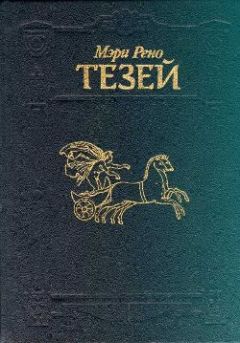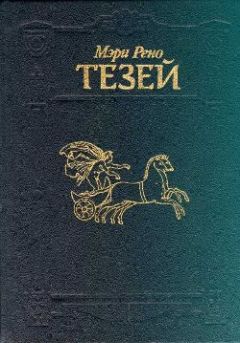В ту ночь я сказал Ариадне:
— Я был в Малом Дворце. Ты была права. Если его нужно остановить — это надо делать быстро.
— Знаю, — говорит, — я бы сама его убила, если бы знала как.
Со мной она была нежна, как голубка, и я тогда не придал значения этим словам. Слишком уж свирепые были слова, к тому же о брате как-никак. Но ведь она всю жизнь была одна-одинешенька, прислониться не к кому, — конечно измучилась, озлобилась…
— Послушай, — говорю. — Молчи и слушай меня внимательно. Если бы я мог связаться со своими и они прислали бы мне корабли — что тогда? Сама понимаешь — это война. За кого стали бы сражаться критяне?
Она перевернулась, оперлась подбородком на руки, долго лежала молча. Потом говорит:
— Они бы сражались за себя. Восстали бы против эллинских домов, когда их хозяева ушли бы на войну. Это было бы кошмарно — вся страна в крови… Но Астерион сделает то же самое, для того ему и нужны критяне. Когда он их использует — он уж постарается, чтобы это их восстание было последним. Да, им придется платить своей жизнью за еще более тяжкие цепи. — Она скрестила руки и уронила голову на них. Потом опять заговорила. — Но… если…
Я погладил ей волосы.
— Что? — спрашиваю.
Мотнула головой…
— Подожди, — говорит, — мне надо подумать… Ой, ты посмотри, где Орион уже!.. Как быстро ночь проходит!..
Мы начали прощаться, а на это уходило много времени, так что больше уже не говорили ни о чем в тот раз.
Теперь в моем подвале было уже достаточно оружия. Для каждого плясуна в Бычьем Дворе — для всех парней и девушек было достаточно. Я рассказал Аминтору, где оно спрятано, чтобы моя смерть, если что, не порушила всего дела. У девушек в их спальном помещении было еще десятка три кинжалов. Пришла зима, иногда Бычья Пляска отменялась из-за дождя или снега — жители Лабиринта давно уже не подвергали себя неудобствам ради того, чтобы почтить бога… Но если мы не выходили на арену, то тренировались на Дедаловом Быке или устраивали свои игры: разбивались на две стороны по жребию, или юноши против девушек, или просто танцевали, если были утомлены… Во всяком случае, всё время двигались, чтобы не терять формы. Я уже видел, как в других командах ребята расслаблялись; и знал, чем это кончается, всегда.
В Бычьем Дворе мы были уже третий сезон. Уже знали всё, что только может случиться с бычьим плясуном. С маленьким теленком Посейдона, как называли нас критяне. Мы знали, что спасает жизнь плясуна; знали, что его губит; знали, что убивает через неделю, а что через полгода… И однажды, когда наши девушки боролись меж собой, — жрицы запрещали им бороться с нами, — однажды Аминтор тронул меня за руку и тихо сказал: «Наша Хриза растет».
Мы только посмотрели друг на друга — тут не нужно было слов больше. Когда нас увезли из Афин, ей было четырнадцать и она была эллинка — с ног до головы. Если она будет жить, то станет подобна Богине-Деве, будет стройной и высокой… Но высокие девушки на арене долго не живут.
«Когда пройдет зима, перед сезоном весенних штормов придут корабли», — так я сказал Аминтору. А когда он отвернулся — померил его рост против своего. Он сам тоже вырос, на три пальца.
Аминтор стал мне очень дорог. Мы столько проработали вместе, что и думать стали, как один: он знал, как я буду прыгать, — даже раньше, чем я сам. По Дворцу шли сплетни, что мы с ним любовники, — мы уже перестали отрицать. Надоело. К тому же это избавляло нас от назойливости кносских придворных: от их дурацких букетов, перстней, жеманных стишков, «случайных» встреч в темноте… И нам было над чем посмеяться вместе — тоже хорошо… А теперь эта болтовня даже пошла на пользу: мы могли шептаться друг с другом сколько угодно, и это было, так сказать, в порядке вещей; а второе — узнав Ариадну, я перестал таскаться по бабам, и могло бы возникнуть слишком много догадок, если бы не версия про нас с Аминтором.
Но накануне Бычьей Пляски я всегда спал один; иногда даже две ночи, если чувствовал, что так надо. Это нелегко давалось: ведь я был молод, а с тех пор, как пришел к ней, даже не целовал ни одну женщину, кроме нее… Да, нелегко давалось. Но мой народ, я сам — мы были далеко от дома, у меня не было ни законов, ни воинов; лишь во мне самом была опора царской власти моей, и малейшая трещина могла расколоть мое хрупкое царство.
Когда я говорил ей, что не приду, она меня не упрекала, во всяком случае вслух. Но по рукам ее я чувствовал, ей хотелось, чтобы я сказал: «Пусть будет что будет, пусть меня растерзают быки, пусть сгинет мой народ — все на свете можно отдать за ночь в твоих объятьях!» А она бы ответила: «Нет! Не приходи… Клянусь, что меня здесь не будет»… Ей очень хотелось, чтобы я сказал так, — просто чтобы услышать, — но я был молод и принимал свое призвание всерьез, как священную миссию. Играть с ней — святотатство; ее нельзя бросить девушке, словно нитку жемчугов… В те годы я постоянно прислушивался к богу.
(Теперь бы мне ничего не стоило доставить женщине такую радость. Он больше не зовет меня, с тех пор как сын мой погиб на скалах у моря. Я тогда чувствовал предостережение от земли и сказал ему: «Берегись Посейдонова гнева!» Только это я ему сказал, и он мог понять как хотел, я слишком разъярен был… Он решил, что это проклятие, а я ничего больше не сказал. И видел, как уезжал он, — высокий парень, крупные трезенские кони, — видел, как он несся вскачь к той узкой опасной дороге, — видел и молчал!.. А теперь бог молчит.)
Но я помню, — хоть так давно это было, — помню, как мы встречались после Бычьей Пляски, и эти встречи были, как вино — неразбавленное вино, полное огня, настоянное на пряном меде… Ради таких ночей стоило нам побыть друг без друга. Помню, как она плакала над какой-то глупой царапиной, — первой с тех пор, как мы были вместе. Это в ту ночь я спросил ее:
— Ты придумала что-нибудь?
— Да, — говорит, — завтра ночью я тебе расскажу.
— А почему не сейчас?
— Это займет слишком много времени, — говорит, — а сегодня мне его слишком жалко…
И укусила меня, легко-легко, словно котенок. На другой день я то и дело находил на себе следы ее зубов, но в Бычьем Дворе на синяки и царапины никто не обращает внимания.
На другую ночь я снова шел к ней через подвалы. И вижу — в темноте храмового склада что-то шевелится, тень какая-то… Я потянулся за своим самодельным кинжалом, но тень скользнула на свет лампы — это была она. Мы обнялись между позолоченным катафалком и грудой кукол… Она была закутана в тот же черный хитон, что и в первый раз.
— Пойдем со мной, — говорит, — ты должен поговорить с одним человеком.
Она взяла с полки круглую глиняную лампу, — такие можно затенять, надо лишь отверстие прикрыть, — я открыл было рот спросить — она закрыла мне губы рукой.