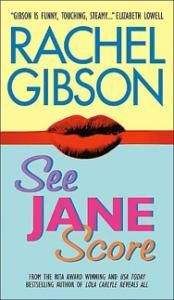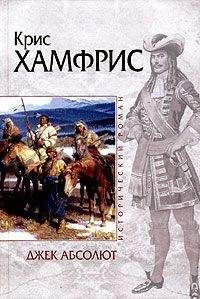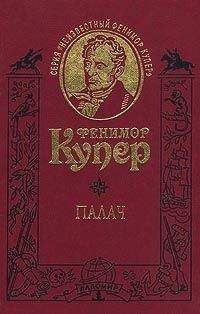Он ошибся. Ему не понадобилось ждать так долго.
Голос зазвучал прямо над ними, с балок давно разрушенного верхнего этажа. Это было песнопение на старый знакомый мотив. Голос скорее хрипел, чем пел. Однако слова, хотя и невнятные, понимались сразу же.
Зарублены, скованы, сгнили в цепях,
Забиты кнутами, висят на ветвях,
Девицы и жены канули на дно,
Но твердо они возглашали одно:
Нас не заставите свернуть,
Жизнь во Христе. Христос — наш путь.
В темноте раздалось насмешливое хихиканье. В лунном свете блеснуло два десятка похожих на крысиные глаз.
— Добро пожаловать, братья. Добро пожаловать в Новый Иерусалим.
Звук удара заставил женщин, находившихся в доме, замереть и затаить дыхание. Бросив все дела, они в молчании ждали, когда закончится вдох и начнется плач. Каждая надеялась на то, что рыдания положат этому конец. Все же в последнее время у хозяина дома сил стало гораздо меньше.
Плач раздался — пронзительные, захлебывающиеся рыдания Алисы. Поскольку Алиса всегда была любимицей, ей доставалось меньше остальных. Но не этим утром. Ее мать и старая нянька, Марлена, вздрагивали при звуке ударов. А потом раздался гневный крик:
— Убирайся! Убирайся! Потаскуха! Ты хочешь свести меня с ума?
Дверь главной спальни распахнулась, и оттуда вышвырнули визжащую Алису. Она упала к ногам матери — сплошные острые кости и прерывистые вздохи. Та наклонилась, чтобы утешить и обнять дочь. Ее истощенное тело пыталось укрыть младшее, последнее оставшееся ей дитя.
Подняв голову и стараясь не встречаться взглядом с мужем, Герта взмолилась:
— Корнелиус, дражайший, какую глупость сделала на этот раз Алиса? Ах ты, дурная, дурная девочка!
Ее голос звучал укоризненно, но она продолжала бережно укачивать дочь. К счастью, ее муж был очень близорук.
Он стоял в дверном проеме, который прежде заполнил бы своим телом. Пусть во время лишений осады он и потерял треть своего веса, но вспыльчивости не утратил. Скорее, наоборот.
— Эта потаскуха, которую мы вырастили, — крикнул он, — снова заговорила со мной о свадьбе. О том, чтобы стать третьей шлюхой на содержании у этого шута Таддеуса. Чтобы кто-то из Фуггеров вступил в брак с дубильщиком — само по себе нелепо! Но чтобы стать проституткой — это уже совсем другой разговор.
Алиса, балованный ребенок, чаще всего проявляла унаследованную от Корнелиуса вспыльчивость. Сквозь слезы она сердито проговорила:
— Но ведь он — один из двенадцати! К нему прислушивается сам царь! Если он не защитит меня, царь может выдать меня за любого старого мясника!
Объятия ее матери не смогли послужить хорошей защитой от ударов Корнелиуса.
— Иезавель! Как ты смеешь упоминать при мне царя? Этого… этого портняжку! Я буду сам тебя защищать — я, Корнелиус Альбрехт Фуггер! Я имею полное право тобой распоряжаться. Полное право, слышишь? И когда это безумие закончится и порядок будет восстановлен, я выдам тебя замуж за самого уродливого, самого старого мясника, какого пожелаю! Если только у него найдется немного золота, чтобы за тебя заплатить!
Гнев утомил его. Отец отступил назад и согнулся, упираясь руками в колени.
— А теперь убирайся с глаз моих! Уведите ее!
Мать и дочь поспешно спаслись бегством на кухню, где Марлена встретила их прохладными компрессами и ласковыми словами. Однако это далеко не сразу осушило их слезы.
— Ох, почему он не понимает? — рыдала Алиса. — Посмотри на меня! Я становлюсь старой и уродливой. У меня гниют зубы, выпадают волосы. Никто не захочет на мне жениться. Мне все равно, что Таддеус берет меня третьей женой. Пусть бы даже пятой, по крайней мере, у меня будет муж. Пока не поздно. О-ох!
Корнелиус захлопнул дверь к себе в комнату, но, поскольку большую часть деревянных панелей со стен сорвали, чтобы топить камины и строить укрепления, он по-прежнему слышал рыдания. У него чесались руки от желания залезть за балку, вытащить оттуда ореховый прут, который он держал там, — и пороть, пороть, пока единственным звуком в доме не станет свист ударов. Но Корнелиус понимал, что на это у него не хватит сил. Он стареет; катастрофы последних лет заставили его стремительно сдавать. А тут еще голод и необходимость дежурить на стенах. Они ведь действительно считали, что он будет сражаться! Он, Корнелиус Фуггер, самый мирный человек в городе!
Его семья — он только о них и печется, а они так с ним обращаются! Сначала его сын сбегает с двухлетней прибылью, а теперь дочь хочет выскочить замуж за дубильщика! Что ж, он заботится о них лучше, чем они о нем. И все это со временем станет очевидным — когда этих безумцев прогонят и восстановится порядок. О, он очень хорошо о них позаботился!
Корнелиус подошел к камину, где лежала давно остывшая зола, и осторожно вынул из стены один камень, положив его на пол рядом с собой. Подняв свечу, даже своими близорукими глазами он различил блеск золотых монет, сложенных в нише. Три года торговли — до того, как началось это безумие. Все готово, чтобы вернуть славному имени Фуггеров в Мюнстере подобающее место.
У двери тихо поскреблись. Корнелиус поспешно поставил камень на место. Повернувшись к двери, он рявкнул:
— Убирайся!
Его жена робко отозвалась:
— Но, Корнелиус, дорогой мой супруг, собрание!
Он совсем о нем забыл. Очередная встреча «Избранных», так называемых «Племен Израилевых», на площади. Новая порция апокалиптического сумасшествия. Его презрение ко всему этому не знало границ. Но никто не смел пропускать собрания. Никто из тех, кто хотел остаться в живых.
— Хорошо, иду, — сказал он. — И вели, чтобы эта распустеха, моя дочь, надела свое самое плохое платье. Она не будет кокетничать с распутниками и сводниками, которые правят нашим городом!
У этих сборищ был только один плюс: наказания. В последнее время преступлением считалось практически все. Смертью или хотя бы членовредительством наказывались распущенность, богохульство, накопительство. И даже непочтительный тон в разговоре с родителями.
Корнелиус тихо засмеялся.
«Может быть, так мне и следует поступить. Объявить сегодня утром о постыдном поведении Алисы, о проявленном ею неуважении. Посмотрим, захочет ли ее в жены дубильщик Таддеус, если ей отрубят нос!»
От этих собраний на площади была еще одна польза. Если наказания будут проводиться с прежней интенсивностью, то скоро на стенах не останется ни одного здорового воина и принц и епископ принесут наконец освобождение.
* * *
На главной площади Мюнстера, под сенью храма святого Ламберта, под слепыми взглядами дюжины последних предателей Слова, чьими головами были украшены зубцы стен, двенадцать колен Возрожденного Израиля собрались, чтобы приветствовать своего царя.