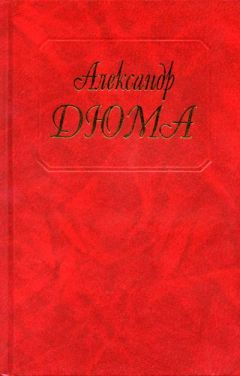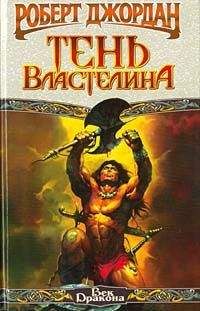— Я могла бы любить оруженосца Луи, он был бы под стать бедной Одетте из Шан-Дивер, ради него я готова с радостью отдать свою жизнь. Чувство долга может заставить меня отдать ее и ради герцога Туренского — только на что она высокородному супругу герцогини Валентины Миланской, доблестному рыцарю королевы Изабеллы?..
Герцог хотел было ответить, но в эту минуту в комнату вбежала перепуганная кормилица.
— О, бедное мое дитя! — бросилась она к Одетте. — Что они хотят с вами сделать!
— Что такое? — спросил герцог.
— Мэтр Луи, за мадмуазель пришли какие-то люди…
— Откуда они?
— Из Туренского дворца.
— Из дворца? — нахмурился герцог и бросил взгляд на Одетту. — Кто же прислал их? — продолжал он, недоверчиво глядя на кормилицу.
— Герцогиня Валентина Миланская.
— Моя жена?! — воскликнул герцог.
— Его жена?.. — в изумлении повторила Жанна.
— Да, его жена, — отвечала Одетта, опершись рукою на плечо кормилицы. — Перед тобою брат короля. У него есть жена, и, смеясь, он, должно быть, сказал ей: «На улице Феронри, неподалеку от кладбища Невинно убиенных младенцев, живет бедная девушка, к которой я прихожу каждый вечер, когда ее старый отец… Боже, как она меня любит!» — Одетта горько рассмеялась. — Вот что он ей сказал. И жена его, разумеется, хочет меня видеть.
— Одетта! — резко оборвал ее герцог. — Пусть я умру, если то, что ты говоришь, правда. Я предпочел бы потерять все свое состояние, только не это. Клянусь тебе, я узнаю, кто проник в нашу тайну, и горе тому, кто так коварно подшутил надо мной!
С этими словами герцог бросился к двери.
— Сударь, куда вы? — остановила его Одетта.
— Никто, кроме меня, не вправе распоряжаться в этом доме, и я прикажу людям, которые посмели сюда прийти, немедленно убираться прочь!
— Вы вольны делать что угодно, сударь, но ведь эти люди узнают вас. Они скажут герцогине, что вы здесь, о чем она, возможно, и не догадывается. Герцогиня сочтет меня виноватой куда больше, чем это есть на самом деле, и уж тогда мне не ждать пощады!
— Разве ты пойдешь в Туренский дворец?
— Непременно пойду. Я встречусь с вашей женой и сама во всем ей признаюсь. Я стану перед ней на колени, и она простит меня. И вас, сударь, она тоже простит, даже еще скорее…
— Поступай, как знаешь, Одетта, — сказал герцог, — ты всегда права, мой ангел.
С печальной улыбкой Одетта знаком приказала Жанне подать накидку.
— Как же ты доберешься до дворца?
— Эти люди явились в карете, — ответила Жанна, набрасывая накидку девушке на плечи.
— Все равно я буду охранять тебя! — воскликнул герцог.
— До сих пор, сударь, меня хранил Господь, и, я надеюсь, Он и впредь будет моим хранителем.
С этими словами Одетта почтительно поклонилась герцогу и, уже спускаясь по лестнице, сказала, обращаясь к ожидавшим ее людям:
— Господа, я готова, ведите меня, куда вам угодно.
Герцог с минуту постоял в оцепенении там, где его оставила Одетта. Потом, выйдя из комнаты, он сбежал вниз по лестнице к наружной двери и ненадолго задержался у порога, глядя вслед удалявшейся карете. Увидев, что она направилась к улице Сент-Оноре, сам он помчался бегом по улице Сен-Дени, потом по улице О-Фер и, пересекши хлебный рынок, оказался у своего дома как раз в ту минуту, когда карета въехала в улицу Дез-Этюв. Убедившись, что он ее обогнал, герцог проник в дом через ту самую потайную дверь, из которой вышел, и бесшумно проскользнул в одну из комнат, помещавшуюся рядом со спальней герцогини, откуда он в окошко мог наблюдать все, что там происходило.
Герцогиня Валентина стояла посреди комнаты в гневе и нетерпении: при малейшем шорохе она бросала взгляд на дверь, и полукружья великолепных темных бровей, украшавших ее лицо, когда оно было спокойно, сейчас почти смыкались у переносицы. Одета она была с большой роскошью, в лучшие свои наряды. Однако же она то и дело подходила к зеркалу, стараясь придать своим чертам то выражение мягкости и доброты, которое составляло главную прелесть всего ее облика; потом она добавляла к прическе еще какое-нибудь драгоценное украшение, ибо ей хотелось раздавить, уничтожить дерзнувшую соперничать с нею женщину под тяжестью двойного гнета: и высоким своим саном, и своей неотразимой красотой.
Наконец герцогиня услышала шум в соседней комнате; прислушавшись, она в поисках опоры схватилась за высокую спинку резного кресла; в глазах у нее потемнело, она почувствовала, что колени ее дрожат. В эту минуту дверь отворилась, и в спальню вошел слуга, доложив, что девушка, которую герцогиня желала видеть, ждет милостивого разрешения войти. Герцогиня знаком показала, что готова ее принять.
Свою накидку Одетта оставила в прихожей и явилась в том скромном наряде, в каком мы ее видели; только волосы она заплела в длинную косу, и, так как ей нечем было заколоть ее, коса ниспадала на грудь и спускалась до самых колен. Одетта остановилась у двери, которая тотчас затворилась за ней.
Перед этим чистым и светлым видением герцогиня замерла в неподвижности: она была поражена скромностью и достоинством посетительницы, которую воображала себе, разумеется, совсем иною; почувствовав, что начать разговор следует ей, ибо она захотела этой встречи, герцогиня сказала мягким, прерывающимся от волнения голосом:
— Входите же, входите…
Одетта прошла вперед, потупив глаза, но лицо ее было спокойно; остановившись в трех шагах от герцогини, она опустилась на одно колено.
— Стало быть, это вы хотели отнять у меня любовь герцога? — обратилась к ней герцогиня. — И после этого всего вы полагаете, что достаточно вам преклонить передо мною колени и я вас прощу?
Одетта быстро поднялась; лицо ее пылало:
— На колени, сударыня, я встала вовсе не для того, чтобы вы простили меня; по воле Всевышнего я не чувствую перед вами никакой вины. Я опустилась на колени, потому что вы знатная принцесса, а я всего лишь бедная девушка. Но теперь, отдав почести вашему высокому сану, я буду говорить с вами стоя; спрашивайте, ваше высочество, я готова отвечать.
Герцогиня никак не ожидала встретить такое спокойствие; она поняла, что внушить его могла лишь невинность и лишь бесстыдство могло помочь его разыграть. Она видела перед собой прекрасные синие глаза, такие добрые и такие ясные, что казалось, будто они созданы для того, чтобы через них проникать в самые глубины сердца, и сердце это, чувствовала герцогиня, чисто, как сердце младенца. Герцогиня Туренская была добра, первый приступ итальянской ревности, заставивший ее действовать и говорить, понемногу утих; она протянула Одетте руку и сказала ей ласково и нежно: