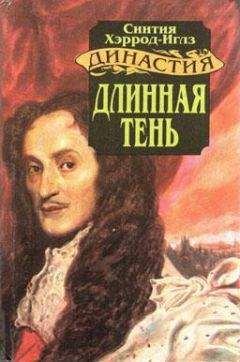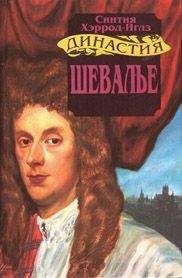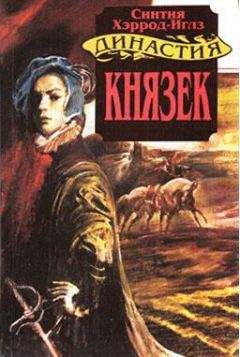Внезапно ее глаза наполнились слезами, она повернулась к Аннунсиате и закричала.
– О! По мне, все неправильно! Мне кажется, что это должно прийти, как пламя в сердце, как внезапный яркий свет! Но у него все иначе. Он думает, рассуждает, спрашивает и затем, со всей силой своего бесстрастного ума, принимает – принимает абсолютно и бесповоротно. Но я знаю, что радости он не испытывает. Анна Хайд заметила свои слезы и смахнула их нетерпеливым жестом, словно они мешали ей.
– Он принял веру разумом, но не сердцем. Нет в нем ни радости, ни страсти. Он не слышит музыки, не воспринимает цвета, не ценит славу. Он не подвержен экстазу. Нет ни тайны, ни ужаса, ни экзальтации. О! Он такой холодный, холодный!
Анна еще немного помолчала. Аннунсиата глядела на нее с состраданием, вспоминая собственные светлые слова, сказанные накануне: «Говорят, что новообращенные одержимы верой». И, хотя ей никогда не приходилось говорить об этом, она понимала, что имеет в виду Анна Хайд: вера – это нечто большее, чем вера от ума; она заполняет тебя до такой степени, что ты ощущаешь себя сосудом, полным воды, а любой культовый праздник выливается в песню, радость, экзальтацию. Но не для герцога. Она попыталась представить его молодым и очаровательным, смеющимся и танцующим, но ей это не удалось.
Герцогиня снова смахнула слезы и сказала:
– Не то чтобы я волновалась о его светлости, вы не думайте, все как раз наоборот. Мы с королем не можем убедить его бывать в королевской часовне, хотя бы для проформы. Герцог считает, что лицемерить – бесчестно. Он не идет на компромисс. Бог знает, что будет, если он переживет Чарльза и взойдет на престол. Он шагает слишком широко для своего народа.
Аннунсиата кивнула, вспоминая один из аспектов романского католицизма, неприемлемый для английского народа, – святой обязанностью каждого католика было привести своего товарища в лоно римской церкви. А англичане никогда не позволят управлять собой чужеземному принцу, особенно принцу церкви.
– Тогда вы, наверное, полагаете, что королева не... – начала она с сомнением.
Губы Анны Хайд сжались.
– За восемь лет она так ни разу и не родила. Нет, скорее всего, детей у королевы не будет, но король никогда не помышлял о разводе.
– Возможно, если она забеременеет... Она так часто себя чувствует неважно...
– У нее постоянные обмороки и ипохондрия и больше терпения, чем можно предположить, но она сильна, как лошадь. Она переживет всех нас, будьте уверены. Вот почему я должна родить сына. И тяжело не родить, а сохранить его потом. Ведь вы хорошо это знаете.
Аннунсиата согласилась. Трое умерших сыновей, и последний тоже нездоров, по словам Доркас. Сердце сжалось от боли. Всего несколько ее детей выжили. Возможно, она действительно была не права, пустившись в это путешествие в Лондон, рискуя жизнью и здоровьем ребенка. Возможно, она должна отправить малыша обратно в деревню. Возможно...
– Мы все в Его руках, – мягко сказала Анна Хайд, и Аннунсиата поняла, что герцогиня проникла в ее мысли, читая их по ее лицу.
– Да, ваша светлость.
Как часто она успокаивала Ральфа такими же словами. Если Бог захочет взять ее дитя, то возьмет его. А если захочет оставить в живых, то найдет для этого средства.
Очевидно, герцогиня сочла, что пора поменять тему. Она устроилась поудобней и сказала:
– Не могу ли я побеспокоить вас и попросить налить мне немного шоколада. И скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь вести от Эдмунда?
Ребенок продолжал болеть. На следующее утро, после возвращения Аннунсиаты из Хаммерсмита, Доркас решила поговорить с ней. Она дождалась, пока дети после утреннего визита к родителям разошлись по своим делам, попросила Тома дать ей знать, когда Берч будет очень занята, потому что не могла свободно разговаривать в ее присутствии. Наконец Том подал ей знак, значительно кивнув, и Доркас, пунцовая от возбуждения, наказав своим подопечным до ее возвращения сидеть тихо и смирно, вышла из комнаты.
– Поторопись, – сказал ей Том, пока они спускались по лестнице, – она вышла, чтобы найти муфту для хозяйки, поэтому у тебя всего несколько минут. Правда, она не найдет ее на месте.
– С чего ты взял? – удивленно спросила Доркас.
– Потому что я ее спрятал, – ухмыльнулся Том. – Я подслушал разговор и, узнав, что хозяйке нужна муфта, побежал и спрятал ее под кровать.
– Да благословит тебя Бог, Том! – сердечно сказала Доркас.
– Да ладно, чего уж там! – расплылся в улыбке Том. Аннунсиата была в хорошем расположении духа, вспоминая поездку в Хаммерсмит. Она нашла, что любовница принца Руперта, Хьюджес, была очаровательной, остроумной и интеллигентной девушкой, явно наслаждающейся своим влиянием на великого принца, но чувствительной и добросердечной. Принц, очевидно, восторгался своей пассией, и Аннунсиата почувствовала легкий укол ревности, ведь когда-то он также восхищался ею. Было приятно наблюдать, как он купается в счастье, и осознавать его нежную привязанность к ее детям. Картина, представшая перед глазами, заставила Аннунсиату растрогаться до слез, а мысль о том, насколько она сама была близка к роковой черте, но сумела не переступить ее, порой заставляла содрогаться от ужаса. Ведь этот человек мог стать отцом ее детей! Когда он касался ее руки или перехватывал взгляд, на их лицах появлялось выражение облегчения и сожаления одновременно.
Аннунсиата обернулась на скрип двери и, ожидая увидеть Берч, сказала:
– Думаю, нам надо найти какую-нибудь шляпную резинку для... О! Доркас, что тебе? Я собираюсь уходить.
– Мадам, могла бы я на минутку занять ваше внимание? Это о малыше, – нервно стискивая руки, сказала Доркас.
– Что? Он не... – испуганно спросила Аннунсиата.
– О, мадам, пожалуйста, я прошу разрешить мне нанять кормилицу для младенца, – выпалила Доркас.
Глаза Аннунсиаты сузились, но Доркас продолжала, не дав ей возможности открыть рот:
– Я знаю, что говорит Берч, но ребенок болен, и я боюсь, что он умрет.
– Ты не должна допустить этого, – холодно отчеканила Аннунсиата.
– Но, мадам, малыш не усваивает овсянку, он от нее болеет, бедное дитя. Позвольте мне нанять ему кормилицу, и он...
– Мой сын, словно ребенок какой-нибудь нищенки, будет вскормлен грудным молоком! И чем это ему поможет?
– Если это спасет его жизнь...
– Если?! А вдруг это убьет его?! Раз он не усваивает хорошую овсянку, то как может усвоить молоко?
Она видела, как расстроена Доркас, поэтому смягчила тон:
– Ну иди сюда, иди. Я знаю, как ты беспокоишься. Но ведь сегодня утром ему было лучше? Он же почти не плакал.
Доркас посмотрела на нее без всякой надежды.