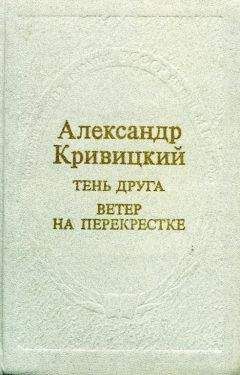— Ну вот, а я извелся. Все хотел поговорить с вами о том случае. Не понимал, зачем вы тогда так явно пренебрегли опасностью. Ведь можно было в объезд... И, грешным делом, подумал, — уж вы меня простите, я откровенно скажу: не повлияло ли на вас присутствие корреспондентов? Мне хотелось понять, могут ли такие легкомысленные «житейские факторы» действовать на серьезного человека, да еще так, чтобы он готов был идти на риск...
Рокоссовский рассмеялся.
— Высоко же вы ставите вашу профессию. — Он повертел в руках пустую рюмку. — Впрочем, что ж тут плохого! Но я вас разочарую. Не в корреспондентах, конечно, было дело. — Рокоссовский оглянулся. — Пить мне все равно нельзя, так присядем на этот диванчик, я вам попробую объяснить свои ощущения того дня. Я их хорошо помню. — И, уже сидя на низком диване, продолжал: — Кто испытал то время, тот поймет. Надоело съеживаться, пригибать голову. Но именно этому, как вы ни говорите, учила оборона. А тут наконец-то, судя по всему, начинались наши большие наступления. К ним следовало готовиться и психологически. Я не хочу сказать, что рассчитывал свое решение как математик. Конечно, нет. Но ведь образ действий, продиктованный интуицией, — это тот же расчет, только давно уже запрограммированный в подсознании. Наступление требовало выпрямить войска, вдохнуть в них новый дух. Начинать надо было с себя. А что касается риска, то, по моим наблюдениям, это категория вполне условная. Пословицу «береженого бог бережет» придумали не самые храбрые люди. — Рокоссовский приложил руку к груди и чуть повел ее вверх, будто хотел что-то поправить там, внутри. — Пойдемте к столу, однако. Попробуем все же чуточку расширить сосуды.
Мы чокнулись коньяком. Хмурый адъютант, стоя поодаль, метнул на маршала сердитый взгляд.
— Вы ведь тогда приезжали со Ставским и Павленко.
— Точно так, — подтвердил я. — Память у вас хорошая, Константин Константинович.
— Все, что было под Москвой, помню по дням и по часам... В моей военной биографии это была самая трудная пора. Да, обоих уже давно нет. Ставский погиб, кажется, под Великими Луками. А как умер Павленко?
— Сердце, — ответил я.
— Сердце... — медленно повторил Рокоссовский и снова левой рукой будто поддержал или поправил что-то в груди. На мгновение в глазах его мелькнула и сейчас же исчезла мучительная озабоченность, так не вязавшаяся с обычным хладнокровием этого всегда владеющего собой человека.
Ответив на тосты и перекинувшись репликами с окружающими, Рокоссовский неожиданно для меня продолжил наш разговор. Чуть отступив от стола, он вполголоса говорил о значении нравственного элемента на войне, о знании воинской психологии и военной истории. А в заключение сказал:
— Исследование этой сферы, конечно, манит литератора. Если оставить в стороне область духа, то война останется сборником математических задач. Поэтому мне понятен ваш интерес и к тому незначительному эпизоду. Проблемы воинской психологии и уроки военной истории нужно изучать не только в мирные дни, но и на войне. В военное время они встают перед нами острее, резче...
УТОПИЯ ГЕЛЬДЕРСА,
ИЛИ
ОТГОЛОСКИ МОДНЫХ ВОЕННЫХ ТЕОРИЙ
Разговор с Рокоссовским я хорошо запомнил. К тому времени, когда он происходил, я уже был автором книг на военно-исторические темы и работ, в той или иной мере связанных с военной психологией. Но, думая над содержанием беседы с Рокоссовским и мысленно повторяя его выразительные слова о духовной сфере и сборнике математических задач, я вновь и вновь вспоминал осень сорок первого года в Москве. И на этот раз особенно те ее дни, какие мы провели вместе с Павленко. Мы жили и работали в осажденной Москве, регулярно ездили во фронтовые командировки и по роду нашей редакционной работы, естественно, обязаны были писать. А давно известно: чтобы писать, необходимо, помимо всего прочего, еще и читать. Читали в армии всюду. Даже и на войне, я убежден, наши войска были самыми читающими в мире. Миллионы экземпляров газет — от «Красной звезды» до славных «дивизионок», «летучий дождь» брошюр, классика, жадно поглощаемая впервые или заново, произведения советских писателей. Понятно, не читали в наступлении. А вот в обороне, эшелонированной на большую глубину, в периоды затишья из вещевого мешка извлекался заветный томик, кто-то приносил в блиндаж истрепанные, как хорошо послужившая гимнастерка, номера газет с первыми главами «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова, «Рассказов Ивана Сударева» Алексея Толстого и «Василия Теркина» Александра Твардовского или журнал с «Днями и ночами» Константина Симонова, «Это было в Ленинграде» Александра Чаковского, фронтовыми «Письмами товарищу» Бориса Горбатова. Но самой первой была «Русская повесть» Петра Павленко.
В конце декабря редакция все-таки услала его в Горький — ровно на десять дней. За этот срок и была написана повесть. Она печаталась в нашей газете с 16 января по 21 февраля 1942 года.
Автор не считал ее своей удачей. Он жаловался в письмо, что работал «спеша, спотыкаясь... Не было лишнего дня, чтобы вычитать, дописать».
Но повесть, пусть даже и очерковая, на седьмой месяц войны! Может быть, она открыла дорогу другим... Уже в то время подтолкнула в ком-то из молодых офицеров или солдат желание излить на бумаге все, что видели глаза и чем волновалось сердце. Может быть, уже тогда начинались «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева, «Танки идут ромбом» Анатолия Ананьева и смутно вырисовывались очертания будущих повестей Василя Быкова, Михаила Алексеева, Виктора Астафьева...
Невзирая на гром пушек, музы все-таки заговорили. Редактор оказался прав. Постепенно создавалась и с пылу с жару шла на фронт литература. Книга включалась в боезапас солдата.
Читали, конечно, и мы в «Красной звезде». Я и хочу, хотя бы отчасти, рассказать о своем круге чтения. Оно носило характер направленный, необходимый для работы. И в течение месяца был этот круг у меня как бы общим с Петром Павленко. Мы даже нашли этому «процессу» весьма старинную форму — читали попеременно вслух.
Павленко подкинул в наш «ночной клуб» книгу майора германской армии Гельдерса «Воздушная война 1936 года». Вышла она на русском языке в начале тридцатых годов как «ближняя» фантастика на военные темы, однако же с вполне практическим прицелом. Тогда Павленко написал «Полемические варианты» к книге немецкого офицера. И ее второе русское издание сопровождалось этими вариантами в качестве послесловия.