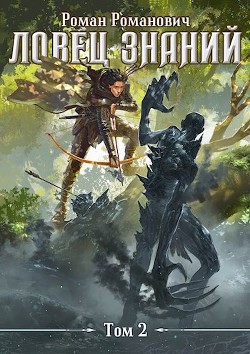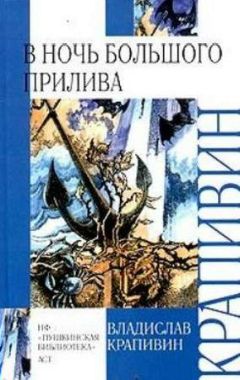и поистине, мой разум не позволит мне прильнуть ко лжи, предстать пред остальными в виде грязного, неопрятного человека. Я стал бедняком, но не потерял былого достоинства. Пускай мои одежды не залатаны, зато мое сердце продолжает чувствовать! Но есть нечто… ох! Опять эти дети зашумели, да что же это в самом деле! Ну как так можно, вот если бы они… Если бы их хорошенечко… ах, нет, нельзя думать плохо, нельзя дурно поступать… нельзя. Но что же? Ах, есть кое-что, тревожащее меня, убивающее во мне всю волю, всякую жизнь даже сильнее ненависти, я… я не могу ничего написать, мне так трудно придумать… невыносимо трудно, до невозможности. Разве этого я желал? Я потерял все, все что когда-либо имел: семью, друзей, работу, любовь… я лишился всего чем дорожил и обратился… стал делать то, чего мне вовсе не хотелось. Для чего? Чтобы обрести свободу. Какую свободу? Свободу быть собой и бежать от самого себя. Но даже это, даже моя свобода теперь разбилась на маленькие кусочки, на мелкие осколки, которые мне никогда ни собрать, ни соединить воедино. Мне так жаль своей прожитой жизни, так дурно знать, что всю жизнь я только и делал что страдал, и за что? Просто так. Таковы наши страдания, такова наша жизнь, так будет ли возмещение? Будет ли мне, когда нибуть награда за мой безвозмездный труд? Ради чего я это делал? Я ненавижу это, ненавижу жизнь, в которой шумят дети, в которой птицы до боли в ушах трещат и трезвонят поутру, я ненавижу жизнь, в которой есть бессонница, ненавижу жизнь без любви… ненавижу!»
Владислав Романович смолк под воздействием мучительного своего положения. Он ощущал себя больным, хотя был абсолютно здоров и как некоторые искусствоведы поговаривают: «Гении больны телом, но свободны душой» так можно было сопоставить в этом отношении и Владислава Романовича с остальными «больными гениями» и признать в какой-то мере то, что Владислав Романович был одаренным, но увы, против своей воли, скорее даже насильственно одаренным, отличным от остальных своим талантом, который себя никак не оправдал.
Лежа на кровати под крики детей и Марьи Вадимовны, Владиславу Романовичу все же удалось отвлечься от громогласной суеты и ненастного шума, исходившего снаружи и беспрепятственно проникавшего внутрь, в самую глубину его сознания. Чем можно было отвлечь эту сломленную душу? Только любовью. И действительно, стоило ему услышать сначала запах деревьев, а затем и звук шелеста тысячи листьев на нем как этот звук моментально сообщил ему успокоение, невольно проявил улыбку на его угрюмом лице и возбудил в нем чувство любви. Не проявлявшееся долгие годы и давно забытое, чувство это нисходило на него с самых небес и ласкало подобно ветру его бледную от недостатка солнца и прогулок кожу, дряблую не по годам, обветренную постоянными ночными сквозняками, исцарапанную чесоткой, болезненную от плохого аппетита, и умирая Владислав Романович начал оживляться, приходить в себя, любить и торжествовать над ненавистью, над смертью тела и души так словно он никогда не подвергался злостным нападкам внешнего мира что так рьяно повергал Владислава Романовича в самое отчаянное состояние и заставлял его сомневаться в дальнейшей способности сосуществовать вместе с остальными его обитателями.
Владислав Романович едва не уснул, воспользовавшись минутой затишья, которая неизменно накрывает нас поверх одеяла пледом полного безмолвия, как вдруг он вытянул правую ногу и ударился об деревянную дощечку бывшую краем кровати пальцами своих ног и застонал от боли. Сон отпрянул, шум воцарился вновь. Ко всему этому прибавилась нестерпимая духота вынуждающая Владислава Романовича судорожно переворачиваться на кровати, перебирать одеяло руками и ногами, потеть, иногда отбрасывать одеяло в приступе ярости, а затем возвращать его обратно, укутываясь всем телом несмотря на нестерпимый жар.
Духота обыкновенно привлекает мух, но еще больше их привлекают открытые окна, через которые без труда можно проникнуть в неведомое логово, жаль мух обычно не заботит то, каким образом они выберутся из него. Одна такая муха залетела в комнату к Владиславу Романовичу, но этим она отнюдь не стала ограничиваться, этого ей показалось мало. Она заметила на кровати какое-то существо и единственная ее мысль (если мухи конечно способны мыслить) состояла из того, как бы поскорее изведать и познать какое оно из себя это лежачее, порой движущееся существо? Таким образом муха начала хладнокровно осаждать Владислава Романовича, она садилась ему на лицо, беспрестанно жужжала, мучила, изводила бедного не выспавшегося писателя. Эта муха была безжалостнее всякого следователя, всякого преступника и надзирателя, ей казалось мало одного, трех, пяти раз сесть на лицо обезумевшему от бессилия Владиславу Романовичу, который отбивался, шикал, махал руками, тряс одеялом, но увы никак не мог принудить себя открыть глаза и тем более встать дабы дать отпор злосчастному обидчику, крохотному злодею, ей хотелось завладеть этим существом и потому она никак не могла от него оторваться, не могла воспротивиться своему инстинкту.
На какое же мучение она обрекала Владислава Романовича! Дошло даже до головных болей и льющихся слез, но, так вышло, что именно из-за слез его носовая полость вдруг сузилась до двух маленьких щелей, через которые практически невозможно было дышать. Владислав Романович более не мог держать глаза закрытыми. Наступила минута, когда он начал сомневаться в собственной безопасности. Ему чудилось дуновение смерти. Все в одночасье закружилось вокруг него, предметы потеряли недвижность, ровно, как и поверхность бывшая им опорой. Владислав Романович перестал плакать, он сел на кровать и свесил ноги на пол, он сгорбился дабы опереться руками о кровать. Одеяло соскользнуло с его плеч и прикрыло бедра.
Он со всей серьезностью вперился взглядом в необозримое, словно там ему удалось бы найти помощь, отыскать жизнь, которую как ему казалось он начал постепенно терять. Этим взглядом он словно вопрошал самого Бога о своей судьбе и ответом на этот молчаливый взгляд пришлась немая тишина. Для Владислава Романовича больше не существовало шума сандалий Марьи Вадимовны и криков играющих во дворе детей, все это осталось там, за сценой, он же путем какого-то осознания, близости смерти сумел-таки выйти за ее пределы.
Но приблизившись настолько, насколько это было возможно, смерть как это нередко бывает, отпрянула от Владислава Романовича оставляя его на попечение своей помощнице. Сон – это маленькая смерть, подготовка к смерти, смерть мимолетная, проходящая. Владислава Романовича окутала эта помощница смерти, а он и не заметил, как внезапно уснул, как оборвалась всякая связь реального с вымыслом и в какой-то степени этот обрыв, называющийся переходом ко сну или засыпанием поглотил Владислава Романовича еще до того, как тот успел углубиться в него.