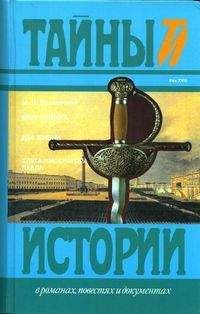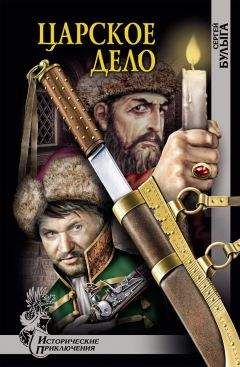И ведь так оно в дальнейшем и случилось! Семнадцатого октября из окон монастыря увидели, как неподалеку, по старой Смоленской дороге, потянулись на запад первые отступающие полки Великой Армии. Колонны проходили мимо, они возвращались на родину, они пока что еще были целы и невредимы. Однако уже и тогда каждый из отступавших думал только о себе, и поэтому о раненых никто не вспоминал. И тогда все те из этих несчастных, у кого еще достало хоть немного сил, вышли, а то даже и выползли на дорогу и стали умолять своих более счастливых товарищей забрать их с собой.
Но никто не желал потесниться в повозке.
Раненые плакали, кричали, умоляли, ругались. А некоторые, и среди них был Дюваль, просто молчали.
Армия проходила мимо, раненые оставались. Но не все были равно покорны судьбе, и поэтому очень скоро вслед за руганью… Ну, если человек вооружен, то, вы же понимаете…
Так что обо всем этом очень скоро стало известно самому императору – и уже к полудню был оглашен приказ, чтобы в каждую повозку брали хотя бы по одному раненому. Раненых, конечно, брали, но при первой же малейшей возможности от них избавлялись.
Вот так и сержант вновь оказался в обочине, не проехав во Францию и десяти верст. Повязки у него ослабли, рана открылась и начала кровоточить. Темнело, сержант лежал ничком, слушал, как скрипят едва ли не над самой головой колеса, и думал о том, что хорошо бы написать домой, чтобы не ждали…
Как вдруг ему почудился знакомый голос. Сержант вздрогнул, поднял, насколько мог, голову, прислушался…
И с радостью понял, что он не ошибся – это Мари звала его! Да-да, та самая Мари, что с ясными глазами, белой челкой, двести семь раз она его счастливо вывозила, двести восьмой – Шевардинский редут, с кем не бывает…
Зато сейчас, когда вся остальная колонна продолжала хоть и медленно, но неумолимо ползти дальше, на запад, одна повозка все-таки остановилась! Совсем рядом! Это, конечно же, кощунство, совершенно беззлобно подумал сержант, когда строевую ставят в хомут, но зато…
Сержант лежал в обочине, счастливо улыбался. А его крошка, дурёха Мари…
Склонила к нему голову, ткнулась ему в лицо…
Но если вы никогда не служили в кавалерии, то вам тут всё равно ничего не объяснишь – бесполезно. А если же служили, то вы и без меня давно всё поняли. Поэтому двинемся дальше.
А дальше было вот что: женщина, сидевшая на облучке остановившейся повозки рванула вожжи раз, второй и, убедившись, что это совершенно бесполезно, сердито чертыхнулась и сошла на землю. Росту эта женщина была небольшого, и поэтому даже короткая офицерская шинель, в которую она была одета, укрывала ее до самых пят. Подойдя к лежащему Дювалю и властным жестом отстранив Мари, женщина склонилась над сержантом и принялась молча его рассматривать. Сержант тоже молчал. Глупо, думал сержант, очень глупо, чего он боится? Мари нашлась, и сам еще он жив, а эта женщина – она довольно-таки хороша собой. И молчалива, а это еще больше ее красит. И, что еще важней, теперь он уже совершенно ясно рассмотрел, что волосы у этой женщины черные-пречерные, цветы воронова крыла. То есть масть вини, а вовсе не трефы. Чудесно! И, значит, теперь плохо лишь одно – что он небрит! Поэтому, чтобы хоть как-то скрасить неминуемо дурное о себе впечатление, сержант уж как мог приподнялся на локте, через силу улыбнулся и сказал:
– Добрый вечер. – А потом добавил: – Ну до чего же вы сегодня очаровательны!
– Да? – нахмурилась женщина. – А что вы здесь делаете?
– Как что? Смотрю на вас. Ведь вы так хороши!
Но женщина в ответ только пожала плечами и строго сказала:
– Вы ранены.
– Да, есть слегка, – согласился сержант.
И тут Мари снова подала голос. Женщина обернулась к лошади.
– Не удивляйтесь, – сказал сержант. – Мы знакомы с ней вот уже пять лет. Скажите, где вы нашли ее?
Женщина на некоторое время задумалась, а потом сказала:
– Ну, в таком случае потрудитесь подняться.
И женщина, ее звали Люлю, помогла сержанту подняться в повозку. А потом перевязала ему рану. А в воскресенье сержант Шарль Дюваль и маркитантка Люсьен Варле поженились. Полковой капеллан обвенчал их в наполовину сгоревшем православном храме. Наверное это было немножко неправильно, но зато очень красиво – поднимаешь голову, и в проломе купола видишь звезды. Такие же яркие и далекие, как и в родном Бордо. Если, конечно, не изменяет память.
Но ничего, он вспомнит! Вот только кончится эта чертова, но зато его последняя кампания – и он сразу получит отставку, и они с Люлю сразу поедут к нему домой, и матушка их благословит, и они будут жить в мире и согласии.
Там, где не бросают раненых.
А император наберет себе новых, молодых солдат. И уж с ними-то он наверняка дойдет до Индии.
Но это будет потом – в новой, чужой кампании, – а пока сержант и маркитантка ехали во Францию в любви и согласии. Так продолжалось одиннадцать дней. И одиннадцать вечеров сержант выпрягал Мари из повозки и ездил за провиантом. Но с каждым разом делать это становилось все труднее и труднее, потому что, усаживаясь за карты, сержант неизменно выигрывал все, что было поставлено на кон, и поэтому – вы же сами это понимаете – каждый последующий вечер ему приходилось искать все новых и новых партнеров.
Так было и в одиннадцатый вечер. Сперва сержант долго искал, а после в четверть часа выиграл полтора десятка яиц, копченого зайца и полуштоф вина, в прекраснейшем расположении духа вернулся к себе…
И увидел, что Люлю убита, а повозка разграблена! Никто, божились, не имел понятия, когда и кем это было сделано, но, тем не менее, сержант вызвал на дуэль всех, кто был в ту ночь на бивуаке. Не теряя выдержки, он говорил им самые обидные слова… Но, конечно же, никто не посмел принять вызов. Тогда, похоронив жену – а он тогда никого и близко не подпустил, сам рыл яму, сам засыпал ее, сам ставил крест, – сержант ушел из той колонны и вскоре прибился к подошедшей с севера 31-й бригаде легкой кавалерии генерала Делебра. В карты Дюваль уже больше не садился – колоду он порвал и выбросил, – и поэтому изрядно голодал, но лошадь его по-прежнему была в холе, однако никто не смел и думать пустить ее в общий котел. А еще, невзирая на морозы, Дюваль не позволял себе нарушать форму одежды, брился по два раза на день и, отнюдь не бравируя этим, искал смерти. В бою.
Но смерть не была к нему благосклонна, и сержант получил медаль.
А вот теперь он ехал, возможно, за второй медалью – ведь нынче утром не успел он еще побриться, как прибежавший посыльный сообщил, что его вызывают в штаб. Должно быть, к маршалу, предположил тот же посыльный.
Однако когда Дюваль вошел в штаб – просторную крестьянскую хату, из которой вынесли все, кроме стен, – то он увидел там не маршала, а уже хорошо знакомого нам генерала Оливье Оливьера. Генерал сидел за импровизированным столом – дверцей кареты, уложенной на козлы для пилки дров – и сосредоточенно водил пальцем по карте. Дюваль остановился на пороге. Генерал медленно поднял голову, внимательно, словно впервые его видел, осмотрел сержанта, а после насмешливо сказал: