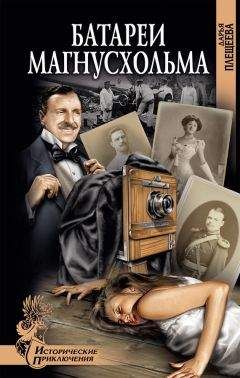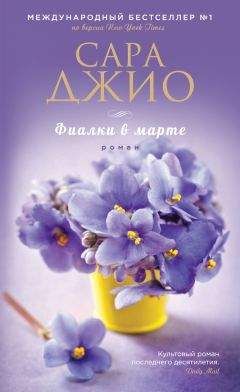Но сперва нужно добавить в барабан патроны…
И тут раздались крик и выстрел.
Поняв, что беречь Калепа уже поздно, Лабрюйер поскакал к «фарману», паля по внезапно возникшей на фоне крыльев темной фигуре. Фигура после третьего выстрела рухнула.
— Ну не дурак ли ты, Аякс?! — крикнул Енисеев. — Ты же меня мог пристрелить как зайца! Сюда, скорее! Я на нем лежу!
И он действительно лежал на Дитрихсе, выворачивая тому руку так, что Кентавр рычал и хрипел от боли.
Раненый в грудь Таубе валялся рядом.
— Мы справились, брат Аякс, мы справились! Отцепляй от аэроплана веревки, вяжи его, сукина сына!
Три дня спустя Енисеев и Лабрюйер сидели в номере гостиницы «Метрополь», куда контрразведчик перебрался из Майоренхофа.
Лабрюйер очень не хотел наносить этот визит. Он в общих чертах знал, откуда в России четыре года назад взялась контрразведка, — для нее употребили имевших опыт соответствующей работы жандармских офицеров. А Лабрюйер, хоть и не был социалистом и революционером, жандармов не уважал.
Опомнившись после всех приключений, он решительно отдалился от Енисеева. Что было — то было, и наездник Енисеев отменный, и стрелок, и по лесу двигаться умеет так, что веточка не хрустнет, листок не шелохнется. Но слишком много скопилось недовольства. Самое последнее — мог же чертов жандарм хоть шепнуть, что отъедет совсем недалеко и потихоньку вернется. Мог! Но не шепнул!
Настоятельное приглашение передал Линдер.
— Вам придется выступить свидетелем по делу об убийстве фрау фон Сальтерн, — говорил Енисеев. — Все-таки именно вы спасли от Дитрихса Хаберманшу. Затем, и это уже моя личная просьба, не пытайтесь облегчить участь Сальтерна. Он эту кашу заварил — он пусть и расхлебывает. Хотя, если бы не его брачные проказы, мы бы так просто не выследили Тюльпана, Кентавра и Альду.
— Вы благодарны ему? За то, что по его милости Селецкая оказалась опозорена, попала в тюрьму? — сердито спросил Лабрюйер.
— Между прочим, это я телефонировал в столицу и сообщил, что к убийству фрау Сальтерн причастны люди из ведомства Максимилиана Ронге, и по моему донесению от ведения дела отстранили инспектора Горнфельда, — сказал Енисеев. — Инспектор Линдер, которому поручили это дело, получил прямые инструкции: действовать неторопливо, чтобы, с одной стороны, не спугнуть наших голубчиков, а с другой — подтолкнуть их к более поспешным поступкам, чем планировал Ронге.
— Так… — пробормотал Лабрюйер.
— Я видел, что вы взяли верный след, а идти по следу — это большие расходы, не так ли? Зная вас, я предположил, что вы, должно быть, из сострадания оказывали маленькие услуги вовлеченным в следствие дамам — совсем крошечные и не выходя за рамки закона. Я предположил, что в Риге непременно должна быть особа, очень вам благодарная. И что эта особа, выйдя замуж и сменив фамилию, стала для вас неуловима. Ведь так?
— Так…
— Деньги, которые прислала прекрасная «Рижанка», — тут Енисеев расправил усы, — возвращать, как вы понимаете, не надо. Они уже прошли через мои финансовые отчетности.
— Я не просил вас об этой помощи.
— Странно было бы, если бы попросили. Не смотрите на меня так, дорогой Аякс, я же не милостыню вам подал. Вы, может быть, не понимаете, что в мире происходит. А я вам скажу. Скоро начнется война. Мы все к ней готовимся — и мы и… и они. Если бы вам сказали: ты нужен Отечеству, отложи все дела и ступай послужи, — что бы вы ответили?
Лабрюйер промолчал. Против службы Отечеству он не возражал, это долг всякого здорового и не слишком старого мужчины, он только не хотел, чтобы Отечество давало свои поручения через жандарма Енисеева.
— Знаете, Лабрюйер, я на днях заходил в городскую библиотеку… Любопытно, кстати: каждая молочница и каждый сапожник скажут вам, где биржа, а о библиотеке в здании ратуши знают немногие, ну да ладно. Библиотекари — народ небогатый и за малую сумму могут перекопать старые подшивки здешних газет, и русских, и немецких, и даже латышских. Я просил их искать восторженных отзывов о том, как быстро и отважно раскрываются уголовные дела рижской полицией. Непременное условие было — фотография полицейского служащего, который блеснул талантами. И, знаете, одно дело меня заинтересовало…
— Как вы догадались? — спросил Лабрюйер.
— Вы так кляли и костерили рижскую полицию, особенно напирая на то, что здешние сыщики любят восторг публики и ради него способны на странные поступки… Я подумал: вы либо пострадавший, либо тот, от кого пострадали… Я, собственно, сам не знал, чего ищу, — признался Енисеев. — Понимал только, что вы как-то связаны с неблаговидными делами рижской полиции. Так вот, то дело…
— Не имею ни малейшего желания обсуждать с вами свое прошлое, — прервал его Лабрюйер. — Я совершил ошибку, я за нее наказан.
— Не ошибка это, не ошибка… всем нам иногда хочется, чтобы нас оценили по заслугам, чтобы похвалили… мы не можем перестать быть людьми, Аякс, а вас еще подлецы репортеры сбили с толку… Аркадий Францевич сумел бы оставить вас в сыскной полиции, но он должен был уезжать, вы сами себе устроили этакое покаяние…
— Хватит об этом.
— Что я могу для вас сделать?
— Мне от вас ничего не нужно, — сказал Лабрюйер. — Своей судьбой я как-нибудь сам распоряжусь.
— Ну, так я и без ваших просьб постараюсь что-то сделать для старика Стрельского.
Лабрюйер, впервые за много лет, покраснел.
Он сильно недолюбливал Енисеева. Он не мог простить Аяксу Саламинскому всех комических неприятностей, в которые тот втравил Аякса Локридского. Ему очень не хотелось думать о Енисееве хорошо.
— Так вы не хотите, чтобы я говорил о вас с господином Кошко?
— Нет.
— Я уезжаю в Петербург, — помолчав, сказал Енисеев. — Завтра днем. Не трудитесь провожать, брат Аякс. Так что… в общем, прощайте. И, наверно, не стоит вам напоминать — все то, что вы знаете обо мне и моих товарищах, а также о виконте де Вальмоне, должно сохраняться в тайне.
— Прощайте, Енисеев, — холодно ответил Лабрюйер.
Он вышел из гостиницы. На душе, вопреки погоде, было пасмурно. Что-то получилось не так.
Последние годы жизни были — словно старое лоскутное одеяло, такое выцветшее и грязное, что пестрые квадраты полинялого ситца с их немудреными узорами сделались почти одинаковы. И вдруг чья-то рука взяла иголку и нашила на одеяло кусок драгоценной парчи, сверкающей, как россыпь рубинов, цитринов, хризолитов и бриллиантов. Владельца одеяла охватил стыд, он попытался оторвать парчу, но нить оказалась чересчур крепка — ему не удалось избавить одеяло от этого раздражающего украшения, ему предстояло волочь за собой по жизни это одеяло, еще долго волочь, злясь и впадая в хандру, потому что контраст был чересчур явен: ежедневное скучное добывание денег провинциальным неудачником и отчаянный взлет души, ночная погоня, бой, победа!