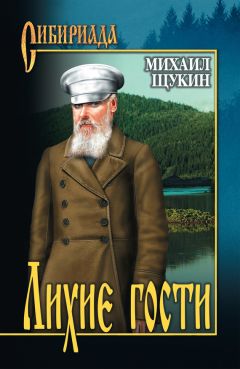Михаил сразу понял, что игра, в которую его втянули, крупная. И до крайности опасная. Большущие деньги за красивые глаза ему платить не собирались. Но тревожные вопросы недолго его мучили. Восторг, пережитый им, когда он глядел на пылающее имение, будто возвратился и заполнил душу: а гори оно все синим огнем! – почему бы и не погарцевать в опасном, но выгодном предприятии? Сама судьба открывала перед ним новую дорогу, словно говорила: не зевай!
И он решил окончательно и утвердился в своем решении: не прозеваю!
О Марии Федоровне, которая упорхнула неизвестно куда, как только в номере стали появляться англичане, он даже не вспоминал. Ясно было, что она свою роль выполнила, привела и сдала с рук на руки англичанам. Ну и ладно… Теперь это уже не имело никакого значения.
Он не знал, что после побега из имения своей тетушки Мария Федоровна претерпела множество приключений. Сначала завела роман с цирковым жонглером, вместе с цирком отправилась в Европу; там они с жонглером расстались, а Мария Федоровна открыла в Вене цветочный магазин и фабрику по производству чернил, но дело ее скоро прогорело, и тогда она познакомилась с богатым англичанином, надеясь с его помощью покрыть долги. Англичанин, благосклонно принимая ее ласки, долги покрыл, а затем потребовал продать цветочный магазин, чернильную фабрику и возвращаться в Россию в качестве служащей английской торговой компании. Той самой, в которую приняли и Михаила, теперь уже Цезаря Белозерова.
Еще целый месяц прожил Цезарь в номере петербургской гостиницы, где с ним каждый день занимались, будто со школяром, и он из этих уроков многое усвоил, серьезно готовясь к той новой жизни, которую выбрал для себя окончательно и бесповоротно и в которой сам хотел быть хозяином.
На исходе лета он покинул столицу империи и с новым именем, с новым паспортом, снабженный деньгами, отправился в Сибирь.
Кабак Мокрый еще глубже ушел в землю нижними венцами. Почернел от дождей и талых снегов. При тусклом свете пасмурного дня казался совсем неприглядным и заброшенным. Но нет… Скрипнули протяжно входные двери, распахнулись настежь и выпустили на волю двух пьянчуг, которые поддерживали друг друга, чтобы не свалиться на землю, и вразнобой горланили каждый свою песню. И разом оборвали пение, когда не удержались на ногах и рухнули, распластавшись на влажной земле.
Ничего здесь не поменялось, кругом царила прежняя картина. На мгновение Цезарю даже показалось, что появится сейчас всегда недовольный Грязнов и примется ругать сидельца, а его, тогда еще маленького Мишатку Спирина, оттреплет за ухо – не за провинность, а так, для порядка, чтобы знал парнишка свое место.
Да, не только ничего не поменялось, но и ничего, оказывается, не забылось. Все сохранилось в памяти.
Он обошел стороной копошившихся на земле пьянчуг, поднялся на низкое, в две ступеньки, крыльцо, и из распахнутой двери дохнуло на него кислым, застоялым запахом. Перешагнул через порог и увидел, что и в самом кабаке все осталось по-прежнему. Только новый сиделец посматривал строгим взглядом да проворно бегал между столами новый парнишка. Он обмахнул стол мокрой тряпкой и вытаращил на Цезаря острые, смышленые глазенки – не каждый день заглядывали сюда такие господа, хорошо одетые.
– Сидельца позови, – попросил его Цезарь.
Подошел сиделец, молодой еще мужик, настороженно оглядел странного посетителя и спросил, чуть наклонив голову:
– Что угодно, господин хороший?
– А скажи мне, братец, кому нынче это заведение принадлежит? Афанасию Грязнову?
– Да какой Грязнов, господин хороший! Грязнов уж давно преставился. Теперь Амелин здесь хозяин, купец, может, слыхали?
– А у Грязнова работница была, Агриппина Спирина, живая она?
– Так ее выставили сразу, как Грязнов помер, она от него парнишку прижила, ну, пока сам живой был, содержал из жалости. А как помер – ее и выпихнули с парнишкой за ворота. Вы чего заказывать будете, господин хороший?
– Спасибо, братец, сытый я.
Цезарь положил на столешницу серебряный рубль и вышел из кабака.
Двое пьянчуг, угомонившись, мирно спали на голой земле, разметав руки-ноги, и даже не чуяли, что начал накрапывать мелкий дождик.
Зачем он сюда зашел, что хотел увидеть и зачем спрашивал о Грязнове и о матери? Сам себе не мог Цезарь дать ответа на этот вопрос. Не было ему никакого дела до паршивого кабака, и ничуть не ворохнулась душа, когда услышал от сидельца о смерти Грязнова и о том, что мать с прижитым ребенком выставили на улицу. И только выбравшись к торговым рядам, где остановил извозчика, понял Цезарь, покачиваясь на мягком сиденье под кожаным верхом, зачем он приходил и что искал в знакомых местах. Неосознанно, безотчетно захотелось ему взглянуть на начало своей жизни. И вспомнилось, как говорила миссис Дженни: «Низкое происхождение – это как родимое пятно, не выведешь». Вот в чем вся беда и закавыка: улыбнулась судьба, а затем взяла и нахмурилась, напомнила про низкое происхождение, оставив без всякого наследства, с одной лишь серой служебной лямкой. Но он тащить ее не желал. Низкое происхождение? Что ж, происхождение не переиначишь, не в его воле, а вот подняться в высоту, так, чтобы у самого дух захватывало – эта мечта заполняла теперь все его существо без остатка.
И он деятельно принялся, отбросив последние сомнения, превращать свою мечту в явь.
Маленький, ладный домик с палисадником, возле которого он велел остановиться извозчику, встретил Цезаря тишиной и прохладой. На полу лежали веселые домотканые половички, на подоконниках радовала глаз герань в глиняных горшках, а в переднем углу стояла маленькая деревянная конторка с двумя чернильницами, вставленными в специальные гнезда, и в эти чернильницы невысокий худенький человек наливал из пузырька чернила. Вскинул быстрый взгляд на гостя, запечатал пузырек пробкой и, не выпуская его из руки, поклонился, показав небольшой горб под рубахой. Странная была рубаха, длинная, едва не до пола, и напоминала рясу. Цезарь поздоровался и услышал в ответ приветливый говорок:
– И вам доброго здоровья, человек хороший. По какой надобности ко мне прибыли?
– Чернухин, Борис Акимович, вы будете?
– Он самый.
– У меня письмо для вас имеется, из английской торговой компании, желательно передать его прямо в собственные руки.
– А разве они прошение мое не получили? Я решил отказаться от службы и прошение посылал.
– Не дошло, видно, ваше прошение, а письмо велено – лично в руки.
– Ах, какая жалость, милый человек, не могу я ваше письмо принять, я же по-английски читать не обучен.
– Письмо на русском языке написано.