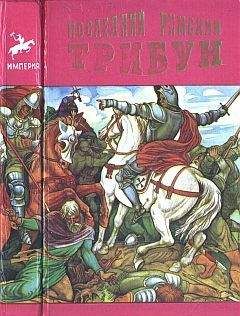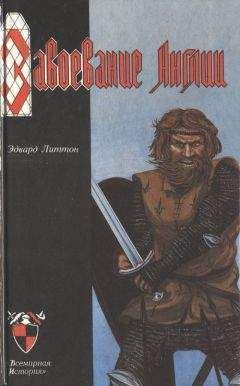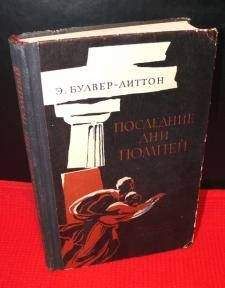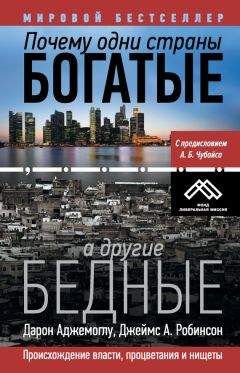— Вальтер, ты говоришь о судьбе Риенцо, пусть она послужит тебе предостережением!
— Риенцо, — возразил Монреаль, — я знаю этого человека! В мирное время и с честным народом он основал бы великую династию. Но он говорил о законе и свободе для людей, которые презирают первый и не хотят защитить последнюю. Посредством толпы гордый трибун приобрел силу, через толпу он потерял ее; я же добуду ее мечом и мечом поддержу!
— Риенцо был слишком жесток; ему не следовало раздражать баронов, — сказал Бреттоне.
— Нет! — сказал Монреаль. — Он был недостаточно жесток. Он старался только быть справедливым и не делать различия между благородным и мужиком, а должен бы делать! Ему следовало бы истребить нобилей с корнем. Но ни один итальянец на это не способен. Это оставлено для меня.
— Ты, конечно, не думаешь перерезать знатнейшие фамилии Рима?
— Перерезать? Нет. Но я захвачу их земли и пожалую ими новое дворянство, — суровое и свирепое дворянство севера, которое хорошо умеет охранять своего государя и охранит его, как источник своей собственной силы. Теперь довольно об этом. Ну, а Риенцо? Он все еще гниет в тюрьме?
— Утром, прежде чем я оставил город, я слышал странные новости. Народ был в волнении; во всяком закоулке собирались группы людей. Говорят, сегодня назначен суд над Риенцо и по именам судей заключают, что оправдание его уже решено.
— А! Ты должен был сказать мне об этом прежде.
— Если его восстановят в Риме, то разве это будет противодействовать твоим планам?
— Гм! Не знаю — но потребуется глубокое размышление и искусная распорядительность. Мне бы очень не хотелось уезжать отсюда, пока я не услышу, чем это кончится.
— Конечно, Вальтер, тебе благоразумнее оставаться с твоими солдатами и предоставить мне вести все это дело.
— Нет, — возразил Монреаль, — ты довольно смел и хитер, но моя голова для этих целей лучше твоей. Сверх того, — продолжал рыцарь, понизив голос и прикрывая лицо, — я дал обет сходить на поклонение этой дорогой для меня реке, месту моих прежних тревог. Кроме того, мне нужны деньги. В этой стране есть немцы, которые могут съесть целую итальянскую армию за обедом; мне очень бы хотелось их завербовать, а их предводителям нужно дать задаток, — жадные канальи! Как будут уплачиваться флорины кардинала?
— Половина теперь, а половина тогда, когда войско будет у Римини.
— Римини! Мысль об этой стране точит мой меч. Помнишь ли ты, как проклятый Малатеста выгнал меня из Аверсы[30], ворвался в мой лагерь и заставил меня отдать ему всю мою добычу? Я огнем и мечом заплачу долг прежде наступления осени.
Прекрасное лицо Монреаля сделалось ужасным при этих словах; обеими руками он схватился за рукоятку меча, и его сильный стан затрепетал от прерывистого дыхания.
Таков был страшный человек, который теперь стал соперником Риенцо за обладание Римом.
VIII
Толпа. Суд. Приговор. Солдат и паж
На следующий вечер большая толпа собралась на улицах Авиньона. Это был второй день допроса Риенцо, и каждую минуту ожидали объявления приговора. Дело его возбуждало сильный интерес у иностранцев всех земель, собранных в этой столице папского блеска. Итальянцы, даже принадлежавшие к высшей знати, были за трибуна, французы — против него.
Среди толпы находился высокий человек в простой и ржавой броне, но с рыцарской осанкой, которая несколько противоречила неуклюжему виду его кольчуги.
Много было сказано шуток насчет оборванного воина, которыми этот живой народ развлекал свое нетерпение, и хотя зонтик шишака скрывал его глаза, но лукавая и веселая улыбка на устах показывала, что он умел выносить направленные против него насмешки.
— Я, — сказал один из толпы, — родился в городе, который был свободен, и уверен, что любимцу народа будет оказано правосудие.
— Аминь, — отвечал важный флорентинец.
— Говорят, — прошептал молодой студент из Парижа, обращаясь к ученому доктору прав, — что его защита была мастерская.
— В ней не было постепенности, — отвечал доктор нерешительно.
В это время высокий солдат почувствовал, что его кто-то нетерпеливо хлопнул по спине.
— Прошу тебя, высокий господин, — сказал резкий и повелительный голос, — отодвинуть свою высокую фигуру несколько в сторону — я не могу видеть сквозь тебя; а я очень хочу в числе первых увидеть Риенцо, когда он будет идти из суда.
— Прекрасный паж, — отвечал солдат весело, пропуская Анджело Виллани, — ты не всегда будешь того мнения, что дорога к свету приобретается посредством приказаний сильным. Когда ты сделаешься постарше, то будешь обижать слабых, а к сильным станешь ластиться.
— Значит, мне придется переменить мою натуру, — отвечал Анджело.
— Ты говоришь хорошо, — сказал солдат после паузы, — извини бесцеремонность моего вопроса: но ты из Италии? — в твоем языке слышен римский диалект; однако же я видел черты, подобные твоим, по эту сторону Альп.
— Может быть, — сказал паж гордо, — но я благодарю Бога, что я римлянин.
В эту минуту послышались громкие крики из той части толпы, которая ближе всех была к зданию суда. При звуке труб папская гвардия, выстроенная вдоль площади, ведущей от суда, выпрямилась и подалась на шаг или два назад на толпу.
Когда трубы умолкли, послышался голос герольда, но звуки его не могли достигнуть того места, где стояли Анджело и солдат; и только по громкому клику, который в одну минуту пробежал торжествующе по толпе, по отрывистым восклицаниям, передаваемым из уст в уста, паж узнал, что Риенцо оправдан.
— Я хотел бы видеть его лицо! — печально вздохнул паж.
— Ты увидишь, — сказал солдат; и он схватил мальчика на руки и начал пробиваться с силой гиганта сквозь живой поток народа к месту, где стояла гвардия и где должен был проходить Риенцо.
Паж, полудовольный, полурассерженный, несколько времени сопротивлялся, но видя, что его усилия напрасны, безмолвно согласился на то, что считал оскорблением своего достоинства.
— Полно, — сказал солдат, — ты первый, кого я охотно поднял над собой; и я делаю это теперь ради твоего прекрасного лица: оно напоминает мне одну особу, которую я любил.
Но эти последние слова были сказаны тихо, и мальчик, в своем нетерпении видеть героя Рима, не слышал их, или не обратил внимания. Скоро показался Риенцо; два патриция из собственной папской свиты шли с ним рядом. Он продвигался медленно среди приветствий толпы, не глядя ни направо, ни налево. Его поступь была тверда и спокойна, и за исключением румянца щек, на его лице не видно было никаких внешних признаков радости или волнения.