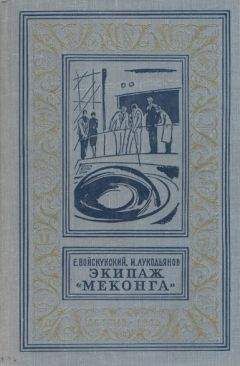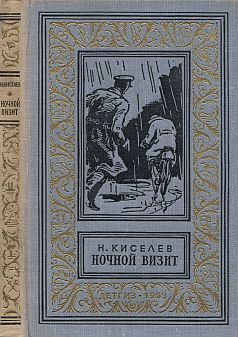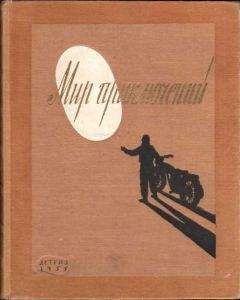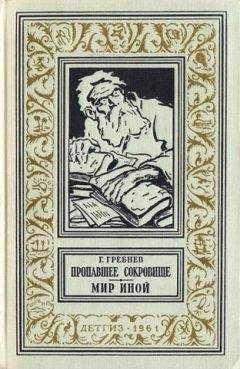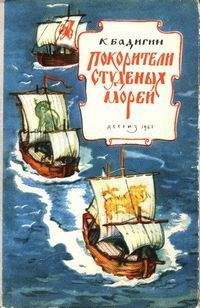В мартовский день 1815 года (тот самый день «страстной недели», когда на другом конце Европы русское войско начало штурм Парижа) возле дома сардинского посланника остановилась карета. Из нее вышел высокий узколицый человек и, аккуратно обойдя порядочную лужу талого снега, поднялся по ступеням в дом. Он сбросил шубу на руки старому слуге-французу, взбил прическу у висков, оправил серый сюртук и велел доложить о себе посланнику. Граф принял его немедля. Войдя в залу, узколицый человек, почтительно поклонился.
Де Местр сидел в глубоком кресле у камина. Обратив к вошедшему пергаментно-желтое, в крупных морщинах лицо, он жестом указал на стул, сказал тусклым голосом:
— Какие новости, mon prince?
Молодой князь Курасов сел на кончик стула, поджал длинные, обтянутые панталонами ноги.
— Изрядные новости, ваше сиятельство, — ответил он тихо. — Удалось дознаться, что нож Матвеев с собой не возит, оставил его в Захарьине, отцовском имении. Засим, в Кронштадте снаряжается бриг «Аскодьд» для дальнего плавания и обретения новых земель в Великом океане. Матвеев назначен на бриг старшим офицером…
— Это все? — Граф прикрыл глаза веками.
— Нет. Теперь, ваше сиятельство, главная новость. Третьего дни в компании офицеров, таких же умствова-телей и афеистов, каков он сам, Матвеев произносил крамольные речи: надобно-де в России созвать генеральные штаты…
Де Местр выпрямился в кресле, ударил сухонькой рукой по подлокотнику. Неожиданно молодо и зло сверкнули глаза на желтом лике.
— Полагаю, ваше сиятельство, — осторожно заметил Курасов, — полагаю полезным дать ход делу о недозволенных речах…
Де Местр остановил его жестом. И погрузился в раздумье.
— Нет, князь, — сказал он после долгой паузы, — мы сделаем иначе. Когда отплывает лейтенант на бриге?
— В июне.
— Превосходно! Мы долго ждали, подождем и еще — до июня. Дело должно быть сделано без лишнего шума. Не трогайте Матвеева…
Бриг «Аскольд» вышел из Кронштадта в середине июня. Попутные ветры понесли его по синему простору Атлантики к мысу Доброй Надежды. Плавание было долгим и трудным. «Ревущие сороковые» едва не погубили бриг. Рвались снасти, стонали доски обшивки под ударами волн, и уж не чаяли служители увидеть когда-либо берег милого отечества.
Много чужих земель и портов повидали российские мореходы и многие острова в Великом океане положили на карту.
На третьем году плавания обогнули мыс Горн, поворотили к северу.
В жаркий февральский день «Аскольд», изрядно потрепанный злыми штормами, вошел в «Реку января» — Рио-де-Жанейро (так назвал широкую бухту некий португальский мореход, приняв ее по ошибке за устье реки).
Лейтенант Матвеев, исхудавший, опаленный солнцем и ветрами, стоял на шканцах и смотрел, как медленно проплывает по левому борту знакомая по описанию гора Сахарная Голова (и впрямь похожа!), а по правому — мрачноватая старая крепость Санта-Круц, стерегущая вход в залив.
На крепостной стене появился человек с большим рупором, крикнул что-то по-португальски. Видя, что на бриге его не поняли, повторил вопрос по-английски: кто, мол, и откуда и долго ли были в море. Арсений прокричал ответ, тоже по-английски.
В глубине огромной бухты — островки, еще крепостца, тьма-тьмущая купеческих судов. На западном берегу, при подошве гор, поросших лесом, белеет средь пышной зелени город Сант-Себастьян. Темной глыбой высится гора Корковадо, проткнув вершиною пухлые недвижные облака. По-над городом, на холмах, — белые стены католицких монастырей. Зелено, солнечно, сине — райская страна, чистая Аркадия…
Пушечно отсалютовали королевскому флагу над крепостью. Ответствовано было — выстрел за выстрел.
Свистнула боцманская дудка, затопали по нагретым доскам палубы босые матросские ноги. Понаторевшие в долгом океанском плавании служители вмиг убрали паруса. Грохоча, пошла разматываться со шпиля якорная цепь.
Спустили баркас. Командир брига с Арсением и судовым врачом съехали на берег — представляться португальским властям, а заодно и русскому генеральному консулу — Лангсдорфу Григорию Ивановичу.
Вблизи город не столь красив. Набережная, верно, хороша, дома стоят добрые, иные в три и четыре этажа. А дальше — узкие улочки, с грязью и вонью. Пестрая, шумная толпа, монахи, одноколки, запряженные мулами…
Из раскрытых дверей какой-то лавки несутся топот ног и заунывное пение.
— Невольничий торг, — поясняет Лангсдорф.
Арсений заглядывает внутрь. Десятка два полуголых, покрытых коростой негров приплясывают средь низеньких скамеек. Бородатый белый человек в широкополой шляпе наблюдает за ними. Кто не довольно резво пляшет — вмиг взбадривает того палкой. Тут же двое белых покупателей: щупают мускулы, заглядывают невольникам в рот — целы ли зубы…
В темных глазах Арсения — ярость и. гнев. И здесь рабство. Мерзостное торжище… Доколе же будет простираться позорнейший из позоров на совести человечества!..
Уже пали сумерки, когда Лангсдорф повел офицеров к своему дому. Приключилась неприятность: с верхнего этажа кто-то выплеснул на улицу нечистоты — чуть-чуть не на голову. Арсений, отскочив, оглядел забрызганные сапоги, возмущенно повернулся к Лангсдорфу. Григорий Иванович качает головой, смеется: — От пакостного сего обычая местные жители никак не отстанут. По вечерам с великою оглядкою надобно ходить…
Григорий Иванович Лангсдорф — хозяин рачительный. Сладким вином, дивными фруктами потчует он гостей, да и послушать генерального консула — удовольствие. Консул он по должности, а по духу, по страсти — натуралист, путешественник, с самим Иваном Федоровичем Крузенштерном по морям хаживал.
Только не слушает Арсений добродушного консула. Хмурясь, читает письмо от отца — оно почти два года, оказывается, ожидало его здесь.
Вот что писал старик:
«По праву отеческому должен бы в первых строках преподать тебе некую нотацию, сиречь поучение: пошто своим вольномыслием на дом отеческий злое навлек. Однако ж не возмогу на тебя иметь сердца, ибо ведаю, каков ты, и мыслям твоим не супротивник. К тому ж хвораю я и об одном молю господа — твоего возвращения из дальних морей дождаться.
Изложу кратко о напастях, посетивших дом наш не волею божиею, а единственно от злого умыслу иных людишек.
Из приятелей твоих бывших ведом тебе конешно князь Курасов. Благонравием и почтительностью оный Курасов ныне до чинов дошел и, как слышно, к тайной канцелярии некое причастие имеет. По злобе ли на тебя — может, какое амурное ривалите меж вами было или еще по какому резону, — только донес он на тебя, Арсюша, все, что ты по отроческой горячности не таясь сказывал и какие книги читывал. А по тому доносу нагрянули в Захарьино служивцы и, обыск учинив, весь дом кверху дном поворотили, разыскивая якобы крамольные бумаги.