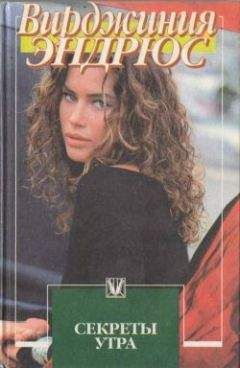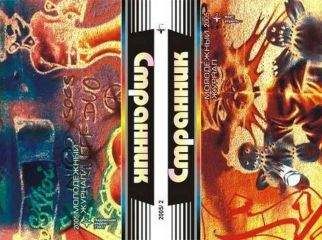— Гм, — самодовольно улыбаясь, крякнул Топольков. — Как не писать! Я когда в Черкасском был, письмо получил, вот и забыл сказать. Память то у меня, Ахмет Иванович, прости, стариковская стала.
Писал… Все писал. Ведь к нему премированные попали. Помнишь — две от Калиостро, три конька и одна кобылка от Хваворита, четыре кобылки от Хомера, конек и две кобылки от Калихулы, еще от кого, не упомню, кобылка, светленькая… белогривка…
— От Абеяна, — подсказал Ахмет Иванович.
— Ну вот от Абеяна!.. Да нешто так? Да ведь от Абеяна-то конек был, нет не от Абеяна, а от Абрека, ну, помнишь, ее еще Купавой назвали, на «К» ремонт тогда шел.
— Ах, да красива была.
— Да, на редкость. Такая рубашка была, что думали в Ахтырский [31] попадет. Нет, попала со всеми, в драгуны.
— И вы их всех видали уже в полку?
— Да всех же! На втором году. Поверишь ли, Ахмет Иванович, еще больше вершка дали. Выше отцов стали.
— Что уход делает, — проговорил Ахмет Иванович.
— Да, гладкие да блестящие стали, какие лошади. «Коневатые» лошади.
— Ну а на войне как?
— Да, пишут, ни австриец, ни немец уйти от них не могут.
— Что значит в степной шири родились да выросли.
— И не поедят иной раз, да работают.
— Ну это-то — голодать им не привыкать стать. Помнишь, Семен Данилович, немец к нам приезжал, вот уж в каком году не упомню. Сказывали, самый дошлый их немец по коннозаводческой части, такой немец, что ну ты и только! Вот уж восхищался лошадьми. Ах как его! Граф Лен… Лем… Мен… Мендорф, что ли?
— Граф Лендорф, — напомнил Топольков. — А на выставке, Иваныч, в Москве! Что было на выставке, как вывели нашу ставку на паддок — двадцать кобылок ремонтного возраста и все, как одна, — рыжие, светлые, червонцами горят, шеи, головки, глаза, ни тебе проточины, ни отметины, сестры родные так одинаковы не будут. Тут англичане, американцы, немцы, французы как обступили, да говорят мне: «Да, что вы их из глины, что ли, по лекалу лепите, что они такие у вас одинаковые». А я, знаешь, и говорю — лепим, говорю, господа немцы, только не из глины, а из земли, из степной земли нашей, целины непаханной, да солнцем могучим приправляю, да ветром, хозяином степ и продуваю, да прокаливаю, чтобы крепче да суше были.
— Да, истинно так.
— Пошли потом в обмер. И подпругу тебе мерили, и охват под коленом — как одна!
— Да, что ж, Семен Данилович, ведь и правда — лепим по лекалу. Помнишь — лет двенадцать, а то может быть, и пятнадцать тому назад, вышел приказ, чтобы, значит, не менее трех вершков ремонт был, ну и дали. Дали и четыре и пять — сколько хочешь!
— А все, Ахмет Иванович, заметь, самая ладная лошадь, которая от двух до трех вершков, а что выше — непременно тебе с изьяном каким-нибудь будет лошадь. Уже что-нибудь в ней да не так будет.
— Тоже, Семен Данилыч, помнишь, как кровь потребовали. Ваша, мол, лошадь простая, грубая, подайте кровь, ну и подали…
— Да, Иваныч, не в одну копейку нам кровь-то эта стала! Господи, что кобыл перепортили!! То цыбастые, то тонконогие пошли жеребята, совсем в упадок духа впадать стали, пока направились. Медленное наше дело, Иваныч! Ошибешься часом — годами поправку делать приходится. Одни из наших погнались за аттестатом, да за резвостью. В Англии, мол, так делается — который, мол, жеребчик резвее всех на скачке, тот и производитель отличный, ну а степь-то по своему повернула. Резвость, мол, резвостью, а ты мне и фигуру дай.
— Понимали мы это дело, Семен Данилыч, да скупость мешала. Ведь за жеребца-то раньше мы четыреста да пятьсот рублей плачивали, а тут на те, выньте-ка шесть-семь тысячев, поневоле задумаешься.
— Ну и пораззорился тогда кое-кто.
Табун напился и, весело играя, пошел в степь. За ним замаячили калмыки в малахаях, прикрывавших их красные, обветренные на степном морозном ветру лица лоскутками бараньей кожи.
И снова степь стала черная, безлюдная, пустынная, без единого предмета, без единого живого существа на всем пространстве до самого горизонта…
2
Жизнь в степи, на зимовнике — особая жизнь. Только жизнь на корабле может сравниться с этой жизнью. Там бури, когда жестокие волны бьют со страшною силою в борты корабля, когда стонет дерево бортов, скрипят мачты и гудят ванты, когда жизнь человека в опасности и человек ближе к смерти и ближе к Богу. Там — человек за бортом — значит погиб, утонул, и море не выдаст костей его для погребения. И здесь — заревет зимою степной буран, начнет трясти дом, стучать железною крышею, гнуть тополя сада, рвать соломенные навесы. Собьется в тесную кучу весь табун лошадей, станет хвостами к ветру, а напротив на особых «укрючных» лошадях стоят верховые калмыки. Им ветер дует прямо в лицо. Дует часами, сутками… Обмерзают привычные щеки, и кожа и мясо лоскутками падают с них. А они стоят и не смеют сойти. Они знают, что если сойдут, то табун сорвется и понесется по ветру, гонимый ужасом, который охватывает иногда лошадей. Подавят, покалечат жеребят, запалятся лучшие кони. Бывало, что табун добегал в этом ужасе до Черного моря и с крутого обрыва падал вниз, разбивался и тонул весь до последнего. Если заблудит в эту снежную бурю в степи одинокий путник, или собьется с пути тройка, окажется, как в море за бортом, и погибнет, как гибнет лодка в море. Степь не выдаст костей их. Занесет снегом, весною волки да вороны растащут труп, если тело не откроют раньше в степи зоркие глаза калмыка.
В море корабль заходит в порты. Шумит веселая портовая жизнь, гремит музыка в приморских трактирах и притонах. День, два, иногда неделя проходит в шумных удовольствиях, пирушках и попойках, и снова корабль, переборки кают, тусклое окно иллюминатора и мерный бег корабля по однообразному морю. Опять узкие интересы корабельной жизни и сегодня те же лица, что были вчера, что будут завтра.
В степи тоже спокойная жизнь зимовников нарушается событиями. Приезжает ремонтная комиссия. Это все равно, что смотр адмирала на корабле. Все загодя чистится и скребется на зимовнике. Отбивают ремонт, ставят его на овес, оповаживают, оглаживают, чистят. Шумной компанией наезжают ремонтеры. Идет торжественная выводка красавцев жеребцов, потом выводка и осмотр молодежи, идущей в запасные полки. Отобранным лошадям ставят масляной краской номера на шерсти, их забирают и уводят на железную дорогу. А на зимовнике шумит веселый обед, подано вино, заколоты лучшие индюки, гуси и утки и идет разговор, все о том же: о лошадях.
И, когда кончат, — сядет комиссия в коляски, запряженные лихими тройками и четвериками, раздадутся последние пожелания счастливого пути и вот уже загремели колеса по мосту на гребле.