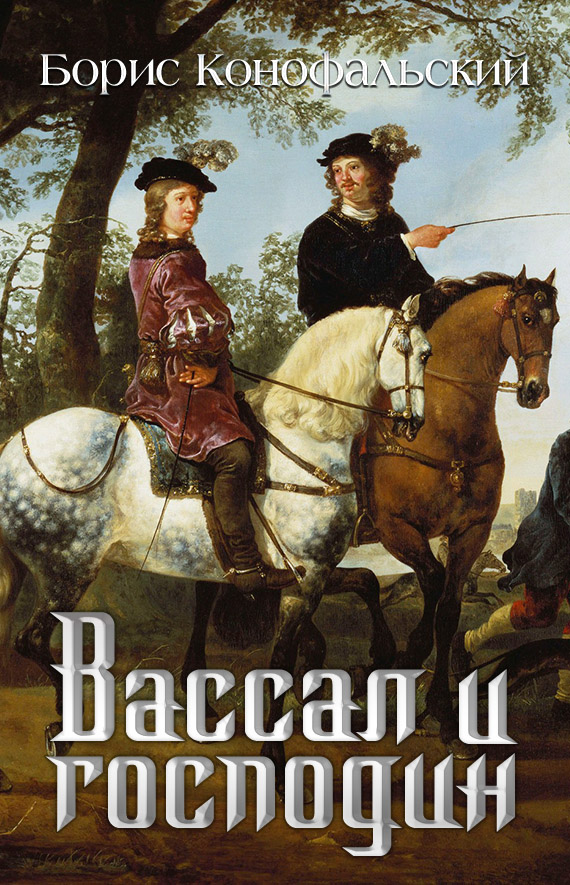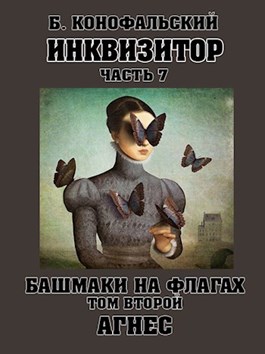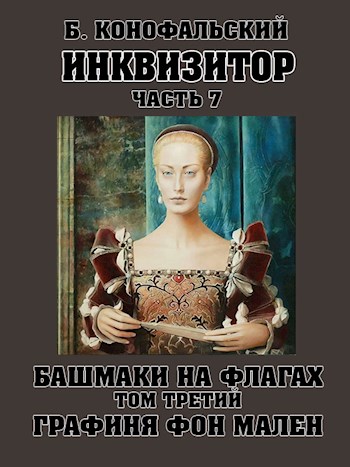броне… И… Стало темно.
И из этой тошнотной темноты пришла боль. Боль в левой части головы. Там, за ухом, даже ближе к шее появилась и росла боль.
Острая боль, которую дополнял тонкий и нудный звон. Он не помнил, как упал на колено, он даже не понимал, что стоит на колене. Он чисто машинально, сам того не понимая, отмахнулся мечом задев что-то. Потом махнул им еще раз. И получил еще один удар, на этот раз, слава Богу, не по шлему, а по левому наплечнику и горжету. Только тут он стал приходить в себя. Он почти ничего не видел, шлем от удара чуть сдвинулся, подшлемник съехал, закрыв обзор, да еще и дышать мешал. Он открыл забрало и буквально одним глазом увидал ногу. Крепкую левую ногу, в крепком башмаке, что упиралась в речной песок. Не думая ни секунды, он нанес удар, короткий, секущий, по икре, по мощной и твердой от напряжения икре, и тут же еще один, и еще. Нет ничего страшнее для открытой плоти, чем острый, как бритва, меч. Даже если удары не размашисты, а коротки и слабы, все равно благородное оружие оставляет страшные раны. Три расползающихся в коже дыры изливались потоками крови, сразу залив весь низ ноги. И тут враг стал убегать, да, медленно, но побежал, поганый еретик, припадая на свою растерзанную ногу, иногда так сильно, что чуть не приседал на ней. И одним глазом кавалер видел, как за ним топает огромными сапожищами с железными вставками Увалень. Он догоняет плохо бегущего, вихляющегося на бегу врага, и абсолютно глупо, и неумело, бьет того в спину алебардой, рубит прямо в кирасу, без всякой надежды пробить ее. Но враг не смог устоять, полетел лицом на песок, и Увалень начинает его рубить и рубить, бить сильно, но все так же неточно.
— Ноги, — орет Волков через сбившийся на лицо подшлемник, — ноги ему руби, болван.
Ни одного слова до Увальня, конечно, не долетело, но, кажется, он и сам справился. Тяжеленные удары большой алебарды, кромсали и ломали доспехи, вместе с костями горца. Волков попытался поправить шлем, но сильная боль пронзила затылок и шею за левым ухом. Боль так была глубока, так глубоко уходила внутрь него, словно шла острым шилом вдоль хребта до самой поясницы.
Головы не поднять, спину не выгнуть. Он, казалось, задыхался, и не только оттого, что сбившийся подшлемник закрывал ему рот, он просто не мог вздохнуть всей грудью. Как будто не умел этого делать. Волков бросил меч, сбросил перчатки и попытался непослушными пальцами найти застежки шлема. И тут его в спину сильно толкнули, он едва не упал, мимо него прошли ноги. И опять его толкнули, вдавили в песок его перчатку, снова толкнули, наступили ему на меч, опять толкнули. Это почти по нему прошли ряды его солдат. Они прошли, толкая и топча его, даже если и знали, что это он. Таков устав, никто не имел права останавливаться в строю. Нет такой причины, которая дозволила бы солдату остановиться во время движения в строю.
— Шаг! Шаг! Шаг! — мерно кричат сержанты, раз барабана нет.
И солдаты ровными рядами идут дальше.
А вот Увальню не было нужды шагать, он кинулся к Волкову, протискиваясь сквозь ряды солдат повторяя:
— Пропустите, я к кавалеру, пропустите. Он ранен, кажется, пропустите.
— Шлем, — хрипел Волков, — помоги… Шлем.
— Сейчас, господин, сейчас, — он стал своими толстыми пальцами ковыряться в застежках, приговаривая. — Сейчас. Я сейчас.
Волков чувствовал, как ослабло напряжение, а еще он чувствовал, как за шиворот ему течет горячая кровь. Как становится липкой и противной одежда.
— Снимай уже, — хрипел он.
— Все, готово, — Увалень потянул шлем с его головы.
И новая резкая боль прострелила его, и опять до поясницы. Но особенно его вывернуло от боли в шее, в левой ее части, сразу под затылком.
— А, дьявол, что так… что у меня там, половины башки что ли нет? — рычал он.
— Нет, господин, но тут у вас рана, все в крови, говорил Увалень, разглядывая затылок кавалера.
— Чем он меня так, а? Как он смог? — сквозь зубы и боль говорил Волков. — Что там у него было? Что за оружие?
— Шарик на цепи у него был, — отвечал оруженосец.
— Шарик? — удивлялся кавалер, ощупывая здоровенный, липкий отек на левой части затылка.
Увалень вскочил и тут же вернулся, сунул к лицу рыцаря оружие врага.
Дьявол, вот оно, что. Вот почему он не смог закрыться от удара. От такого оружия не закроешься рукой. Оно было придумано, чтобы бить поверх щита, когда они были еще в ходу. Перед его лицом раскачивался шар весь утыканный острыми шипами в палец длинной. Шар висел на крепкой цепи в локоть длинной, а цепь крепилась к мощному древку. Малый цеп, железный кистень, моргенштерн [15]. Такого оружия давно Волков не видал. А у этого проклятого горца он был. Кавалер только древко своею левой рукой смог остановить, а тяжелый и шипастый шар так и полетел дальше, прямо ему в затылок, в его драгоценный шлем.
— Вот, господин, — Увалень протянул ему шлем, показывая его.
Из левой затылочной части шлема торчал обломанный шип. Он застрял в крепком железе. Он пробил его и впивался в шею кавалера, пока с него не стянули шлем.
Волков все еще трогал свой залитый кровью затылок, но уже приходил в себя. Он надевал перчатки и брал в руки меч.
Дело еще не было закончено.
— Эшбахт! Эшбахт! — кричали солдаты, что ушли вперед.
Это были люди Бертье.
— Эшбахт! — кричали люди Рене, что шли от леса.
Дело началось. Шум боя. Он состоял из бесконечного крика и лязга железа. Кричали все. И те, кто выигрывал, и те, кто проигрывал.
— Шаг! Шаг! Шаг! — орали сержанты почти идеальным хором, в надежде, что упершиеся во врага солдаты смогут сделать еще один шаг вперед. И в ритм крику солдатская стена делала движение вперед, словно волна, накатываясь на врага. Обычно друг в друга упирались длинными пиками, но Волков решил кончить дело быстро. Пики оставили, работали алебардами и коротким железом.
— Шаг! Шаг! — орут сержанты Эшбахта.
И солдаты все оттесняют горцев все ближе к воде. Алебарды все чаще и чаще попадают по железу и плоти. Короткие копья и топоры тоже работают. Но сейчас, когда стена людей уперлась в стену других людей, оружие почти не наносит вреда.
— Шаг! Шаг! — орут сержанты Эшбахта.
— Не отдавай! — орут сержанты горцев. — Не