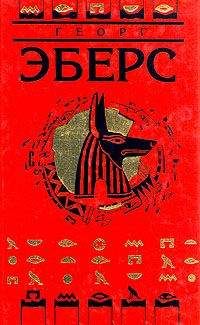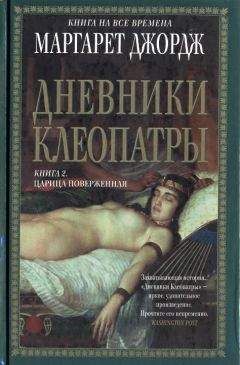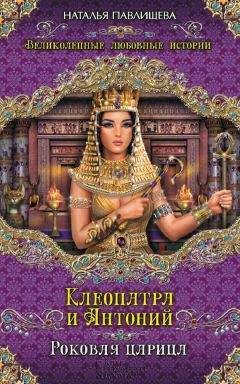Потом царица отправилась в сад, поиграла с детьми, поцеловала их и просила вспоминать о ней с любовью. Архибий догадался, что она замышляет, но Хармиона сообщила ему о грозящем позоре, и Архибий одобрил решение царицы. Невероятным усилием воли он скрыл тоску, раздиравшую его верное сердце. Она должна умереть. Мысль, что Клеопатра будет украшением триумфального шествия Октавиана, казалась невыносимой. На ее благодарность за годы службы и просьбы по-прежнему заботиться о детях он отвечал со спокойствием, которое впоследствии удивляло его самого.
Когда царица сказала о предстоящем свидании с возлюбленным, Архибий спросил, разве она совсем отказалась от учения Эпикура, по мнению которого существование прекращается с жизнью.
Клеопатра отвечала утвердительно и прибавила:
— Даже безболезненное спокойствие перестало казаться мне высшим благом, с тех пор как я убедилась, что любовь приносит не только счастье, что скорбь неотделима от любви. Я не расстанусь с ней и с возлюбленным. Кто испытал то, что мне пришлось испытать, тот познал других богов — не пребывающих в безмятежном покое, как учитель Эпикур. Лучше вечные муки в ином мире вместе с возлюбленным, чем безболезненный, но и безрадостный покой в пустом, неосязаемом ничто… Да и ты не говоришь ли детям, что счастье в отсутствии страдания…
— Как и ты, — воскликнул Архибий, — я убедился, что высшее благо — любовь, и что любовь — страдание!
При этом он наклонился, желая поцеловать ее руку, но она взяла его за голову и быстро прижала губы к его широкому лбу.
Он всхлипнул и, чувствуя, что теряет самообладание, поспешил вернуться к детям.
Клеопатра проводила его глазами, с грустной улыбкой, и пошла во дворец, опираясь на руку Хармионы.
Там она приняла ванну, а потом в дорогом траурном платье опустилась на ложе и велела подать завтрак.
Ира и Хармиона завтракали с ней.
К концу завтрака явилась нубиянка с корзинкой превосходных смокв. Как объяснила она Эпафродиту, находившемуся тут же, их принес какой-то крестьянин. Стража успела уже утащить несколько штук.
Клеопатра и ее приближенные полакомились смоквами, и сам Прокулей, явившийся приветствовать царицу, не отказался от угощения.
После завтрака царица пожелала отдохнуть.
Римляне и прислуга удалились.
Наконец-то женщины остались одни. Они молча взглянули друг на друга.
Хармиона дрожащей рукой сняла плоды, лежавшие наверху; Клеопатра же сказала глухим голосом:
— Супруга Антония, влекомая за колесницей победителя по римским улицам на потеху черни и завистливым матронам!
Она выпрямилась и воскликнула:
— Какая мысль! Что она доказывает: величие или ничтожество Октавиана? Он, гордящийся своим знанием человеческой природы, ожидает такой невероятной вещи от женщины, которая так же свободно открыла ему свою душу, как он скрыл свою. Мы покажем ему, как ошибся он в своем знании людей, и дадим ему урок скромности!
Презрительная улыбка мелькнула на ее прекрасных губах; Клеопатра схватила корзинку и стала быстро выбрасывать смоквы на стол, пока не увидела, что под ними что-то шевелится. Тогда она глубоко вздохнула и сказала вполголоса:
— Вот она! — и решительно опустила руку в корзину, не сводя глаз со змеи, которая точно боялась исполнить свою ужасную обязанность.
— Благодарю, благодарю за все! Не пугайтесь! Ты ведь знаешь, Ира, что это не больно. Мы уснем спокойно. — При этом она слегка вздрогнула и продолжала:
— Серьезное, однако, дело — смерть. Все равно, так нужно. Почему медлит змея? Да, да… Честолюбие и любовь были главными пружинами в моей жизни… Мое имя увенчает слава… Следую за тобой, Марк Антоний!
Хармиона наклонилась над левой, свободной рукой царицы и, рыдая, осыпала ее поцелуями. Клеопатра, не отнимая руки, продолжала, следя за движениями аспида:
— Покой эпикурейского сада начинается для нас сегодня, моя дорогая… Будет ли он свободен от страданий, кто знает, но, и в этом я согласна с Архибием, страдание присуще высшему земному счастью — любви. Я думаю, что вы тоже убедились в этом. И эта страна, мой Египет, также дорога мне. Лучше ослепнуть на века, чем видеть ее под римским игом. Близнецы и мой нежный цветок… Вспоминая о своей матери и ее кончине, они будут, не правда ли…
Тут она вздрогнула и слегка вскрикнула. Змея, подобно холодной молнии, кинулась на ее руку, и спустя несколько мгновений Клеопатра, бездыханная, опустилась на ложе.
Бледная, но с полным самообладанием, Ира сказала, указывая на нее:
— Точно уснувший ребенок. Обворожительна и после смерти. Сама судьба должна была исполнить последнее желание великой царицы, непобедимой женщины. Гордые замыслы Октавиана разлетаются в прах. Триумфатор без тебя явится римлянам.
С этими словами она наклонилась над усопшей, закрыла ей глаза, поцеловала ее в губы и в лоб, и Хармиона последовала ее примеру.
В соседней комнате послышались шаги.
— Время не терпит! — воскликнула Ира. — Пора. Не кажется ли тебе, будто солнце зашло?
Хармиона кивнула головой и тихо сказала:
— Яд?
— Вот он, — отвечала Ира, протягивая ей булавку. — Легкий укол, и все кончено… Вот смотри! Но нет! Ты причинила мне жестокое горе. Ты знаешь, мой товарищ детства Дион… Я простила тебе. Но теперь… Окажи мне благодеяние! Избавь меня от необходимости самой воткнуть иглу… Согласна? Если да, то эта рука окажет тебе такую же услугу.
Хармиона прижала к сердцу племянницу, поцеловала ее, слегка уколола ее в руку и сказала, подавая другую булавку:
— Теперь твоя очередь. Сердца наши были полны любви к той, которая умела любить, как никто, и отвечала на нашу любовь. Что же значит другая любовь, от которой мы отреклись! Кому светит солнце, тот не нуждается в других светильниках. «Любовь — страдание», — сказала она перед кончиной. Но в этом страдании, и прежде всего в страдании самоотречения, таится счастье, неоценимое счастье, которое делает легкой смерть. Мне хочется только последовать за царицей… О как больно!
Игла Иры уколола ее.
Яд действовал быстро. Ира почувствовала головокружение и с трудом сохранила равновесие. Хармиона опустилась на колени; в эту минуту послышался стук в дверь и громкие голоса Эпафродита и Прокулея, требовавших, чтобы их впустили.
Ответа не последовало; тогда они ворвались, сломав замок.
Хармиона, бледная и безжизненная, лежала у ног царицы; Ира же, шатаясь, поправляла диадему на голове Клеопатры. Ее последней заботой была забота о нежно любимой госпоже.
Римляне бросились к ним вне себя от гнева. Видя, что Ира еще держится на ногах, Эпафродит хотел поднять ее подругу, восклицая:
— Славные дела, Хармиона, нечего сказать!