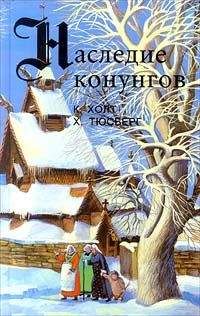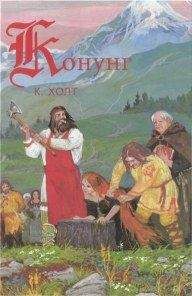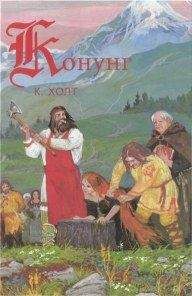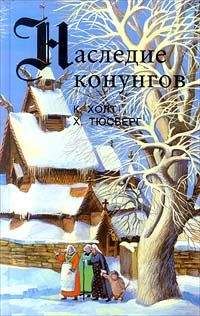Те ночи встают теперь предо мной в странном свете. Я вижу их словно сквозь воду. Все мы были ученые люди, священники. И мы вновь заострили свой ум. Не крик умирающих на поле брани звучал теперь в наших ушах; нет, мы прислушались к голосу сердца. Не звону внимали мечей, но звучанию слов. Мы могли распаляться в бою. Но сейчас мы хранили покой. Охотно мы слушали Симона, конунга. И если Симон в своем озлоблении заходил далеко, мы устилали ковром острые шипы его слов. А когда размягчался Сёрквир, – мы добавляли огня. В тот миг мы были друзьями и мыслили сходно. Конунг решил – и мы тоже, – что ни единое слово, сказанное против епископов, не должно быть направлено против святого отца в Ромаборге. Епископы дали папе совет, который был далеко не мудрым. Они обманули папу. Епископы часто так делали. Но власть конунга древнее епископской, и конунг – помазанник Божий. И мы собрались доказать это людям.
Так мы и делали. Изречения из труда Грациана мы перекладывали с ясной латыни на наш неуклюжий язык. Перевод можно делать по-разному. Мы не вставляли новых слов, но умели выжать из грациановой книги больше, чем даже он сам собирался сказать. Так забавляясь, мы громко смеялись. И дальше всех заходил опять Симон. Конунг сказал: «На надо спешить! Каждый, владеющий славным искусством читать, должен сличить обе книги и ничего не заметить. В наших словах не должно быть различья». Так мы писали.
Уже на рассвете нам подали пива, но мы не сделали ни глотка. Оно осталось стоять на столе. Мы не хотели, чтоб ясность ума помутнела от этого напитка. Исписывали доску за доской, снова вычеркивали. Разравнивали воск, кололи новые палочки, не жалели пергамента. И были согласны во всем.
Я думал о конунге Сверрире: «Он весь погружен в работу!..» Но сам не знал до конца своих мыслей. И вот однажды конунг сказал:
– Осталось теперь переписать все начисто.
И тогда Мартейн встал.
Мы обратили к нему свои взоры. Он выглядел постаревшим, больным.
Он обратился к нам и заговорил.
– Как вы знаете, – начал он, – я отправился через море в Норвегию конунга Сверрира. Не знаю, сумел ли я словом и делом выразить свою дружбу тебе, господин, которую ты вправе требовать, я был в Нидархольме монахом, священником конунговой дружины, епископом Бьёргюна, и когда мое сердце не славило Бога, – оно принадлежало тебе. Мой ум, – а он остается ясным, – подсказывал мне, что конунг идет лишь своим путем, и путь его далеко не всегда пролегает стезей Господней. Но в глубине души ты всегда оставался Божиим слугой. И я видел это. Поэтому шел за тобой.
Со временем я подчинялся тебе уже с меньшей охотой, чем прежде. Когда ты был проклят, я затворился и снял одежду. И бичевал себя: впервые с далекой юности я обратился к этому средству, в которое плохо верил. Но когти ада впились в меня. Чем дальше, тем сильнее впивались они мне в грудь. Я чувствовал, что погибаю.
Могу ли я, Божий священник, епископ, близко стоящий к конунгу и архиепископу, жить дальше под грузом проклятья? И вот я ухожу. Но прежде паду пред тобой на колени.
Он пал на колени и вскоре поднялся.
– Я пожелал послужить умом напоследок тебе, мой конунг, в этом писании, направленном против епископов вашей страны. Я помог тебе всем, что имел. Но теперь я ухожу. В моей жизни ты – истинный конунг. Ты с Аудуном учил меня дружбе. И вот я ухожу. Когти ада впились мне в грудь. Я хочу искупить проклятие, осознать, что я вновь снискал милость у Бога. Но сперва поклонюсь тебе.
И он вновь поклонился конунгу, а потом ушел навсегда.
У всех на глазах были слезы.
Конунг сказал мне:
– Дай ему все, что попросит: свиту и лошадей.
Больше его мы не видели.
Вскоре мы сами покинули Осло.
Позволь мне теперь рассказать тебе, йомфру Кристин, о самом последнем бое в жизни твоего отца – и самом тяжелом. Этот бой, кровавый и страшный, оставил во рту Сверрира привкус дикого меда, когда приближался к концу. Это объяснялось не только тем, что он одержал победу, – как бы она ни была дорога ему. Главная причина лежала в том, что твой отец-конунг, как очень немногие, обладал состраданием, и оно проявлялось даже к врагам. Йомфру Кристин, послушай же, что я скажу тебе в эту ночь!
Отец твой, взял Вестланд и покорил Вик: его люди держали бондов и горожан в страхе. До самой Конунгахеллы доставал его длинный и острый меч. Но в Тунсберге еще сидел Рейдар Посланник. И с ним – сотни две баглеров. Они укрылись на горе, завидев, что мы приближаемся. И мы обложили их.
Стояла осень, и долгие, темные ночи царили в Тунсберге. Я все еще помню торопливых, испуганных горожан на улицах, корабли у причала, звезды над городом, а с наступлением темноты – кольцо костров вокруг горы. Горожане рассказывали, что баглеры успели увести с собой скот. Был у них на горе и колодец. Осень стояла сухая, и две сотни людей нуждались в воде. На нашей же стороне йомфру Кристин, были песочные часы. У конунга были причины для радости: он знал, что победит.
Редко когда в своей жизни он бывал в таком вспыльчивом, скверном настроении, как теперь. Он словно бы понял, что время его истекает, дела его жизни подсчитаны Богом. Цель конунга в том, что прежде свидания со Всевышним страна должна стать его – от Вермланда и до самого моря. Он требовал, чтобы бонды и горожане знали имя конунга и с почтением кланялись королю. Но конунг также миловал. И милость его тяготила.
Еще один отряд баглеров засел на острове Хельги, на озере Мьёрс. Конунг тревожился, что они смогут прорваться в Тунсберг и прийти на помощь тем, кто осажден на горе. А потому он велел, чтобы вокруг этой самой горы возвели частокол. Тогда баглеры не сумеют взять нас в кольцо. Мы принялись рубить деревья в лесу, но дело двигалось туго. Быстрее бы было разобрать пару домов, стоящих поблизости, и потом затесать жерди. Жители этих домов пусть ищут другое место.
Мне всегда хорошо жилось в Тунсберге, йомфру Кристин, но редко встречал я там гостеприимство. Всегда было так, что с самой моей первой встречи с этим городом его жители сдержанно относились ко мне. Я не входил в число своих. Так было в Тунсберге. Разве я не был приближен к конунгу? Не был тем, кто много знает? Идя по улицам, я замечал, что прохожие смотрят мне вслед, но не всегда с восторгом. Той осенью я получил приказ конунга следить за разбором домов и возведением частокола.
Однажды пришел конунг. «Почему она поет?» – спросил он. Конунг стоял на ветру, а люди его разбирали дом. Вытаскивали бревна, мох и прочая пакля сыпались из стен. Люди чихали, ругались, но снова брались за дело, увидев поблизости конунга. «Почему она поет?» – спросил он.