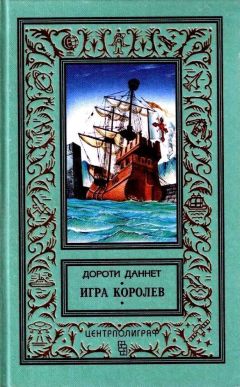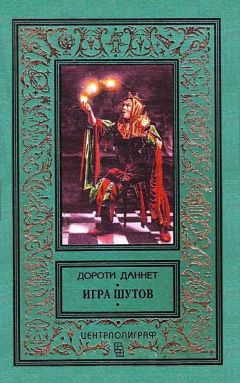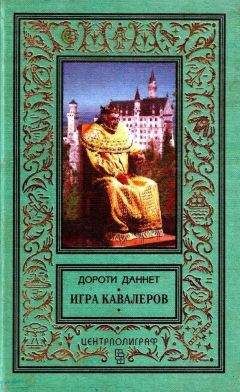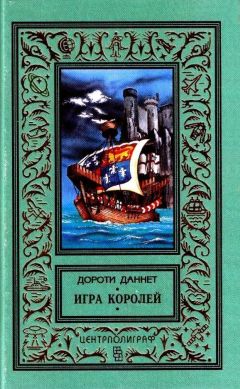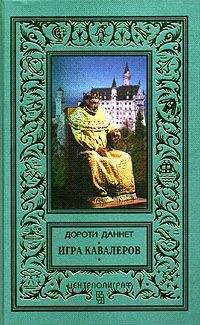— Нечего добавить? — воскликнул Арджилл. — Вас обвиняют в измене, сэр, и в прочих тягчайших преступлениях, а свидетельства ваши признаны не внушающими доверия. Вы не хотите оправдаться?
Лаймонд отвел взгляд, из которого исчезла насмешка, от лица верховного судьи, и опустил глаза на свои неподвижные, сцепленные пальцы.
— Так невелик зазор, — произнес он, — между жизнью и небытием, бывшим и выдуманным, изменой и патриотизмом, цивилизацией и дикостью. Если господин Лаудер может видеть его, он счастлив; если вы все убеждены в его существовании, значит, у вас больше прав судить, чем у меня — защищаться. Мне нечего добавить.
— Если вы не видите разницы между верностью и предательством, господин Кроуфорд, — сказал епископ, — тогда вас и вправду безопаснее будет повесить.
Лаймонд смерил его взглядом:
— А вы видите?
— Столь же ясно, — напыщенно возгласил Оркни, — как я вижу разницу между добром и злом.
— Да. Понятия схожи. Патриотизм, — сказал Лаймонд, — как и честность — дорогостоящая роскошь, спрос на которую вскорости исчезнет совсем на духовном рынке.
— Чувство любви к отчизне, — мягко заметил генеральный прокурор, — не предмет для голословных этических диспутов…
Приятный голос подхватил тему и поднял ее к заоблачным высотам:
— Нет. Это, конечно, чувство — и чувство, несомненно, рождается первым. Для ребенка родной дом и обычаи, принятые там, нечто священное, наилучшее, ненарушимое. Проходят годы, появляется уверенность в себе, копится жизненный опыт. И мы учимся относиться терпимо к нашим родственникам и нашим соседям, к жителям нашего города и, может быть, даже ко всем соотечественникам. Но тот, кто живет на дюйм дальше границы, — заклятый враг.
Он сплел свои длинные пальцы и поднял их, глядя на сомкнутые ладони.
— Патриотизм — теплица, где вызревают личинки. Он рождает нетерпимость, он вызывает несостоятельное, обманчивое буйство красок… Человек весьма средних способностей с радостью ощущает святость цели, непреложность обряда, слышит отголоски тайных, давно утраченных, царственных слов, по-детски ликует, отыскивая следы древней доблести в мифах, легендах, балладах. Он стремится к успеху — так чего же проще? Он устает от бесконечной смены дней, месяцев и лет, он жаждет движения, перемен, бурь и тревог; он счастлив видеть, как расцветает скромный дар, который зачах бы в скудных бороздах обыденной жизни. По всем этим причинам люди хотя бы раз в жизни бросаются в битву ради блага отчизны…
Патриотизм, — продолжал Лаймонд, — высокое слово, ключик, открывающий дверь в волшебную страну. Патриотизм, преданность, искреннее убеждение в том, что во всем мире, объятом яростной борьбой, земля твоих отцов благороднее и лучше всех. Состязание перед лицом небес за лучшую породу людей, средство развеять скуку, выказать больше мощи, больше дарований, потратить больше денег; ребяческая, ханжеская нетерпимость, разменная монета на рынке власти…
Мягкий голос Хозяина Калтера звучал в глубокой тишине.
В лице Лаймонда не дрогнул ни один мускул.
— Это не патриоты, а мученики, и они умирают в радости, полные сознания своих заслуг, как первые христиане умирали в уверенности, что достигнут вечного блаженства, и их пример остается, и бродит, как вино, и вселяет новую жизнь в века. Они возглашают на всю Вселенную: «Преславна наша земля под солнцем». Я должен верить в это. говорят мне. Верить в это — признак доблести, к тому же я выжму из мертвого кома глины страсть, и могущество, и силу самоотречения, которые иначе остались бы погребенными во прахе.
Голос его звенел свободно, и все видели уже, куда ведет их эта отточенная, всем понятная и близкая мысль.
— И кто может сказать, что они не правы? — продолжал Лаймонд. — Всегда будут те, кто прилипает к живому лону отчизны, и те, кто, вырвав из земли свои корни, измышляет новые пути ради общего блага. Разве эта страна — исключение? Разве не найдется человек, который возьмет бесценную вещь и скажет «Вот народ, такова его душа, таковы его недостатки и таковы достоинства»? Как можно возродить этот народ к новой жизни, к новой судьбе, высокой и мирной, и кто, сочувствуя ему в мудрости своей, поведет его нужной тропой?
Две, три, четыре секунды продолжалась тишина. Затем Лаудер с блаженным, просветленным лицом испустил глубокий вздох; сам Арджилл перевел дыхание. Эрскин оторвал взгляд от кресла, где сидел подсудимый, и увидел, как Ричард смотрит на брата, и все его чувства ясно читаются на обычно непроницаемом лице.
Арджилл долго глядел на Лаймонда: раздумье, любопытство, невольное уважение отражалось на бледном, породистом лице. Наконец он произнес:
— Вы сказали то, что полагали нужным сказать в этот миг, и я понял так, что вы не собираетесь оспаривать те тяжелые обвинения против вас лично, какие были выдвинуты сегодня. Не думаю, чтобы вы ошибались, но здесь не место и не время отвечать вам, и я не уверен, что я либо кто-то другой в этом зале сможет сделать это… — Он прервался. — Мы сегодня присутствовали при публичном слушании необычного дела: перед нами прошла череда событий, которые направляла и вела к нужному концу личность сильная и незаурядная. Господин Лаудер по-своему истолковал нам характер этого человека. Но, полагаю, он первый согласится, что, преследуя свои цели, не показал нам этот характер в целости и что, какою бы ни была истинная натура господина Кроуфорда, она, конечно, не проста, не поверхностна и уж во всяком случае нельзя ее назвать пошлой.
Мы тщательно разобрали все представленные свидетельства. Большинство обвинений, возведенных на подсудимого с 1542 года, в значительной степени утратили свою силу благодаря услышанному здесь. Но первоначальное обвинение остается, и доводы, приведенные подсудимым в свою защиту, не смогли поколебать уверенность в подлинности имеющейся в нашем распоряжении улики.
Тем не менее мы еще раз обдумаем дело, и завтра наша палата выскажет свое мнение на заседании Большого парламента, перед которым нам надлежит предстать. Его решения вы должны убояться, и предупреждаю вас: укрепите душу свою.
Это уже был приговор, насколько данное заседание судебной палаты имело право его огласить. Лаймонд выслушал стоя и, несомненно, понял все: мучения этого дня наложили на его лицо неизгладимый отпечаток. Он поклонился советникам и, к удивлению присутствующих, повернулся и поклонился скамьям, где сидели Эрскин и его брат; затем в окружении стражи спокойно направился к двери.
Ни Лаудер, ни судьи, ни застывшие в молчании свидетели так и не вспомнили об Уилле Скотте.