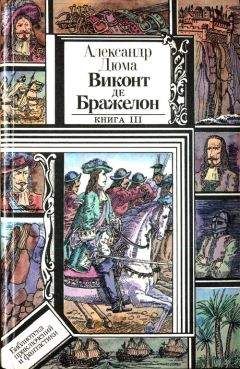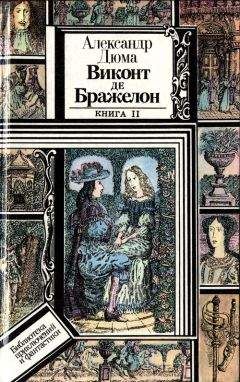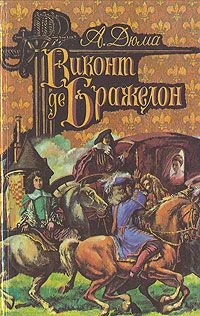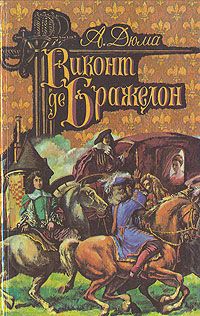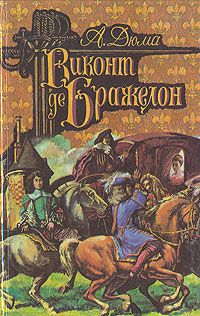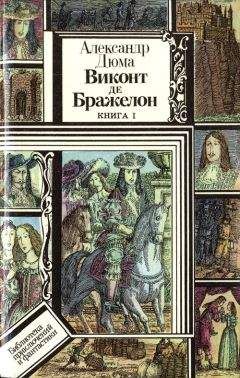— Что же делать?
— Все обстоит очень просто: не давайте ему общаться с кем бы то ни было. Вы понимаете, что, когда его бред стал известен его величеству, который сжалился над его несчастьем и был вознагражден за свою доброту черной неблагодарностью, король пришел в ярость. И вот теперь — хорошенько запомните это, дорогой господин де Безмо, так как это касается вас самым непосредственным образом, — теперь всякому, кто даст ему общаться с кем бы то ни было, кроме меня или самого короля, не миновать смертной казни. Вы слышите, мой милый Безмо, — смертной казни!
— Слышу, слышу, черт подери!
— А теперь спуститесь и отведите этого бедного малого в его камеру, если только не считаете нужным, чтобы он поднялся к вам.
— Зачем?
— Да, вы правы. Полагаю, что лучше сразу же посадить его под замок, разве не так?
— Еще бы!
— В таком случае, друг мой, пошли…
Безмо велел бить в барабан и звонить в колокол, предупреждая по заведенному здесь порядку о том, чтобы все входили в свои помещения, дабы избежать встречи с таинственным узником. Затем, когда проходы были расчищены, он сам подошел к карете за арестантом. Портос, верный приказу, продолжал держать мушкет у груди пленника.
— А, вот вы где, негодяй! — воскликнул Безмо, увидев короля. — Хорошо, хорошо!
И тотчас же, велев королю покинуть карету, он повел его в сопровождении Портоса, не снимавшего маски, и Арамиса, снова ее надевшего, во вторую Бертодьеру и открыл дверь той самой камеры, в которой на протяжении восьми лет томился Филипп.
Король вошел в каземат без единого слова. Он был растерян и бледен.
Безмо закрыл дверь, дважды повернул ключ в замке и, подойдя к Арамису, прошептал ему на ухо:
— Сущая правда, он очень похож на его величество, но все же не так, как вы утверждаете.
— Так что вас уж, во всяком случае, на такой подмене не проведешь?
— Что вы, что вы!
— Вы бесценный человек, дорогой мой Безмо, — сказал Арамис. — А теперь освобождайте Сельдона.
— Верно, я и забыл… Я сейчас отдам приказание…
— Ба! Вы успеете сделать это и завтра.
— Завтра? Нет, нет, сию же минуту! Избави боже затягивать это дело.
— Ну, идите по вашим делам, а меня ожидают мои. Но, надеюсь, вы поняли все до конца, не так ли?
— Что я должен понять?
— Что никто не войдет к узнику без приказа его величества — приказа, который привезу вам я сам.
— Да, прощайте, монсеньор.
Арамис вернулся к своему товарищу:
— Поехали, друг Портос, в Во! И поскорее!
— До чего же чувствуешь себя легким, когда верно послужишь своему королю и тем самым спасешь свою родину, — засмеялся довольный Портос. — Лошадям нечего будет тащить. Поехали!
И карета, освободившись от пленника, который действительно мог казаться Арамису чрезмерно тяжелым, миновала подъемный мост, который тотчас же поднялся за ней снова, и оказалась вне пределов Бастилии.
Страдание в этой жизни соразмерно с силами человека. Мы отнюдь не собираемся утверждать, что бог неизменно соразмеряет ниспосылаемое им человеку несчастье с силами этого человека; подобное утверждение было бы не вполне точным, поскольку тем же богом дозволена смерть, являющаяся единственным выходом для души, которой невмоготу пребывать в оболочке тела. Итак, страдание в этой жизни соразмерно с силами человека. Это значит, что при равном несчастье слабый страдает больше, нежели сильный. Но что же придает человеку силу? Закалка, привычка и опыт. Мы не станем утруждать себя доказательством этого; это аксиома как в отношении нашей душевной жизни, так и нашего естества.
Когда молодой король, потеряв всякое представление о действительности, растерянный и разбитый, понял, что его ведут в одну из камер Бастилии, он решил, что смерть во многих отношениях схожа со сном, что и она полна разнообразных видений. Он вообразил, будто его кровать в замке Во провалилась сквозь пол и вслед за тем он умер; он вообразил, что он — это покойный Людовик XIV, продолжающий видеть все те же ужасы, невозможные для него в жизни и называемые низложением с трона, тюрьмой и всевозможными оскорблениями некогда всемогущего государя.
Наблюдать в качестве призрака, сохраняющего ощущение своего тела, свои собственные мучения, томиться, тщетно стараясь постигнуть непостижимую тайну, где действительность, а где лишь ее подобие, видеть все, слышать все, все понимать, отчетливо помнить мельчайшие подробности своих последних минут — разве это не пытка, пытка тем более невыносимая, что она может быть вечною?
— Не есть ли это то самое, что зовется вечностью, адом? — шептал Людовик XIV в то мгновение, когда за ним закрылась дверь, запираемая Безмо.
Он не проявил ни малейшего интереса к окружающей его обстановке и, прислонившись спиной к стене, окончательно проникся мыслью о том, что он умер; он зажмурил глаза, чтобы не увидеть чего-нибудь еще худшего.
«Но все-таки как же произошла моя смерть? — спрашивал он себя, поддаваясь безумию. — Не спустили ли эту кровать при помощи какого-нибудь приспособления? Нет, нет — когда она начала опускаться, я не почувствовал ни сотрясения, ни толчка… А не отравили ли меня во время обеда или, кто знает, не обкурили ли отравленною свечой, как мою прабабку Жанну д’ Альбре?»[*]
Вдруг холод камеры пронизал плечи Людовика.
«Я видел, — продолжал он, — я видел моего отца мертвым на той самой кровати, на которой он всегда спал; на нем было королевское одеяние. Это бледное лицо с заострившимися чертами, эти застывшие, некогда столь подвижные руки, эти вытянутые, похолодевшие ноги, — нет, ничто не говорило о сне, полном видений. А ведь бог должен был бы наслать на него целые полчища снов, на него, чьей смерти предшествовало столько других, ибо сколь многих он сам послал на смерть!
Нет, этот король по-прежнему был королем, он царил на смертном одре так же, как на своем бархатном троне. Он не отрекся от свойственного ему величия. Бог, ниспославший на него кару, не может наказывать и меня, не сделавшего ничего противного его заповедям».
Странный шум привлек внимание молодого человека. Он посмотрел и увидел на каминной доске под громадной грубою фреской, изображавшей распятие, огромную крысу, грызшую хлебную корку и смотревшую на нового постояльца камеры умным и любознательным взглядом.
Король испугался: крыса вызвала в нем омерзение. С громким криком бросился он к дверям. И благодаря этому вырвавшемуся из его груди крику Людовик понял, что он жив, не потерял разума и что чувства его вполне естественны.