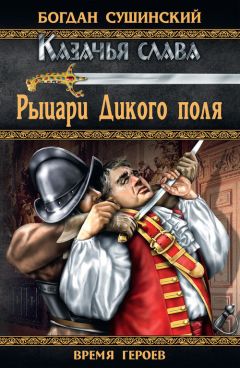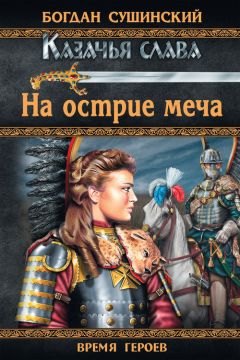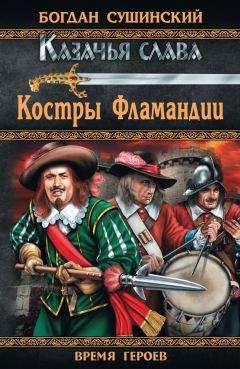— Вот только станет ли? И под каким благовидным предлогом?
— Предлог изыщется сам собой, — успокаивающе улыбнулся многоопытный посол.
По ночам Ислам-Гирею часто грезились Коктебельский залив, застывшие отроги Кара-Дага с запечатленным для вечности на одном из склонов его, крымского хана, ликом [44], окаймленная облаками парусов каравелла, словно бы застывшая между двумя лазурями — морской и небесной.
Эти видения зарождались в его полусне-полуяви как бы сами собой, не вызванные никакими воспоминаниями, не оживляемые ностальгическими взорами, словно частица того, прошлого, бытия в этом мире.
Иное дело, что они не миновали бесследно. Поднявшись утром со своего ложа, Ислам-Гирей неосознанно порывался к окну, будто не понимал, что из бахчисарайского сераля [45] море открываться ему не может. Но поскольку оно действительно не открывалось, у Ислам-Гирея вдруг зарождалась та особая тоска, которая обычно превращает в ностальгические страдания по морю жизнь всякого списанного на берег бывалого моряка.
Нет, нашептывания тайного советника Улема не проходили зря. Еще бы! «Ваши земли, о, великий хан, омывают два моря и три большие реки. Из жалкого степного пастуха-кочевника вашему народу пора превратиться в великого мореплавателя. Почему наша морская держава в глазах всего мира по-прежнему должна оставаться степной колыбелью оседлых кочевников?»
Похоже, что Улем и Карадаг-бей просто помешались на море. Единственное, что их разделяет, так это стремление каждого из них оставить за собой право быть адмиралом обоих — азовского и черноморского — крымских флотов. Чего-чего, а фантазии у степных пастухов-мореплавателей хватает.
Сегодня Улем вновь нашел хана в тайной комнатке, в которую Ислам-Гирей, словно в тайную исповедальню, не впускал никого даже из своих самых приближенных. Здесь, на высоких подставках, красовались три макета кораблей. У одного из генуэзцев, синьора Тьемполо, потомка тех моряков, что когда-то доставляли солдат из Генуи в приморские крепости Крыма, неожиданно открылся удивительный талант: из древесины клена, из коры дуба, тонких металлических пластин и лоскутиков парусины он стал воссоздавать в миниатюре подобия тех прекрасных кораблей, что время от времени появлялись на рейде Кафы. Или тех, которые запоминались ему в портах Генуи, Венеции, Неаполя, Стамбула…
Вот и вчера Тьемполо, вместе со своими тремя учениками, завершил работу над созданием макета королевской каравеллы, точной копии той, на которой, как объяснил мастер, любил когда-то ходить к берегам Сардинии и Сицилии неаполитанский король.
Узнав об этом замысле, хан загорелся особым интересом к кораблю и потребовал: макет должен быть чуть побольше обычного, да таким, чтобы мог удерживаться на плаву. Хотя бы в бассейне ханского дворца.
— Когда прикажете построить его в натуральную величину, светлейший хан, я найму лучших итальянских корабелов, способных создать настоящий флот.
Ислам-Гирей сразу догадался, что за словами Тьемполо скрывается не только личное стремление советника Улема возвыситься при дворе хана до распорядителя всех крымских судоверфей, но и его наушничанье. Однако это его не огорчило. Макет был сотворен потрясающе быстро и с удивительным мастерством.
Правда, хан заподозрил, что генуэзец скомпоновал его из деталей других макетов, давно имевшихся у него в мастерской, в которую правитель всякий раз входил с таким благоговением, словно в мастерскую Создателя Вселенной. Но и это он тоже мог простить Тьемполо. Скрытная, необъяснимая радость, всякий раз зарождавшаяся у Ислам-Гирея при виде этого миниатюрного корабля, стоила такого прощения.
— Прибыло посольство из Украины, всемогущественнейший, — с трудом решился Улем оторвать взор хана от каравеллы. — Полковник Хмельницкий, генеральный писарь реестрового казачества Речи Посполитой, а в будущем — командующий украинской казачьей повстанческой армией, ждет вашего решения.
— Как?! Он уже стал послом?! — спросил хан, осторожно, с мальчишеской нежностью проводя кончиками пальцев по борту парусника. — Еще вчера вы уверяли, что Хмельницкий прибыл сюда как лазутчик.
— Еще вчера я не знал, что вместе с ним прибыл его сын, которому не исполнилось и шестнадцати весен. Мы считали, что это его слуга. Сам полковник об их родстве молчал.
Хан взглянул на генуэзца с тоской человека, которого опять отрывают от единственной отрады его жизни, и, стянув полы халата, побрел в зал, в котором обычно принимал послов и важных гостей.
— Тогда чего он хочет? Кого представляет здесь этот запорожский атаман?
— Свою, пока еще не созданную армию, повелитель. Но армия уже создается, и воевать она намерена с армией польского короля.
Только сейчас в глазах хана вспыхнул хоть какой-то проблеск интереса к личности Хмельницкого.
— И еще мне стало известно, что перекопский мурза чуть было не казнил Хмельницкого как шпиона.
— Что помешало?
— За него вступился Карадаг-бей, — имя своего соперника Улем произнес с явной неохотой, припудренной сладковатой снисходительностью. — Причем очень решительно.
— Значит, Карадаг-бей знал о его приезде и замыслах?
— Они встречались еще там, у Днепра. Карадаг-бей даже выделил своего воина, чтобы тот сопровождал уруса.
— Сюда его.
— Воина, которому было приказано сопровождать? Он ничего не знает.
— Полковника, — нахмурился хан, надевая чалму, украшенную огромным розоватым изумрудом, и, по-восточному скрестив ноги, уселся на своем троне. — Но не как посла. Как грязного гяура и лазутчика. Ты понял меня, советник?
— Он еще должен доказать, кто он на самом деле, ясноликий. А заодно убедить нас, что готов служить вам, как пес.
Таверна именовалась почти вызывающе — «Византия».
«Кто же этот человек, ее владелец, который решился назвать так таверну, находящуюся почти в центре Бахчисарая?» — удивился Хмельницкий, прочтя вывеску, сделанную по-турецки и латыни.
Полковник знал, что в Стамбуле, который когда-то был столицей Византии, власти такой вольности не позволили бы. Все, что связано с византийским прошлым Турции, начиная от названия и заканчивая легендами и историческими книгами об этом очаге европейской цивилизации на значительной территории нынешней Блестящей Порты, находилось под жесточайшим запретом.
Вот почему Хмельницкий просто не мог пройти мимо таверны, хотя бы из уважения к мужеству ее хозяина. Как и следовало ожидать, им оказался стамбульский грек. Рослый, дородный, с наполовину облысевшей головой, он встретил Хмельницкого и Савура как завсегдатаев, с широко распростертыми руками. Так умели встречать только соскучившиеся по посетителям трактирщики на окраинах Стамбула.