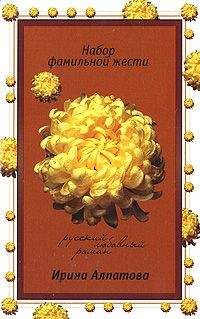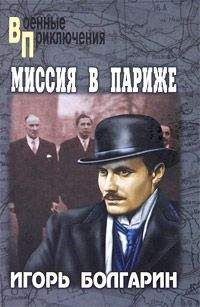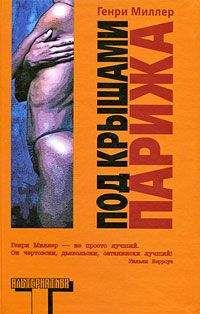Какое счастье, что на его пути, в келье Корсунского Богородицкого монастыря, встретился этот странный красный командир. Если у большевиков существуют такие люди, то он, Слащев, больше с Красной Армией сражаться не желает. Этот человек подарил Якову Александровичу жизнь. И не в том точном понимании, что не увез его на неминуемый расстрел, а в изначально более глубоком. Ибо жизнь – это не только бренное существование, это надежда, вера, смысл.
Нет, он не будет стреляться. И даже мысль о том, что корпус перейдет к генералу Витковскому, не заставит его впасть в отчаяние. Витковский, безусловно, храбрый и исполнительный генерал, но с весьма ограниченным оперативно-тактическим мышлением. Он не увидит ничего, что лежит за пределами задач корпусного масштаба. Он будет атаковать плацдарм, не считаясь с потерями[32]. Чем сможет помешать этому Слащев? Ведь он оставляет в своем корпусе многих близких ему людей, которые теперь окажутся в подчинении у чуждого им человека…
Бороться? Как? Выступить против Врангеля? Но это значит ослаблять и без того малочисленную Русскую армию. Русскую… А может быть – Красная и есть теперь настоящая Русская армия? Он, Слащев, вместе с Врангелем отнял у нее победу на польском фронте.
Время. Ему нужно время, чтобы подумать. Разобраться. И это время теперь у него будет.
…А в Чесменском дворце в Севастополе, в Ставке Врангеля, барон, по привычке меряя огромный кабинет своими саженными шагами, говорил другу и начальнику штаба Шатилову:
– Паша, нужно подготовить какой-то приказ, успокаивающий Слащева. Мне не хотелось бы, чтобы он числился в моих противниках. Их и без того достаточно… Человек он тщеславный. Надо прежде всего дать ему звучное наименование. Ну, скажем, пусть впредь именуется Слащев-Перекопский, в ознаменование его заслуг при защите полуострова. Нет, не звучит! Может быть, Слащев-Крымский? Как Потемкин-Таврический. Да, да! Слащев-Крымский!
– Замечательно, ваше превосходительство!
– Ну и соответствующие слова… там… «Дорогому для сердца каждого русского воина генералу Слащеву…» – и так далее. Орден ему, Николая Чудотворца… И зачислить в запас с сохранением содержания…
Врангель нервничал. Пришло сообщение об окончательном поражении Красной Армии под Варшавой и ее стремительном откате. Казалось бы, радуйся. Одними пленными и интернированными большевики потеряли около двухсот тысяч человек. Но агентурные шифровки доносили, что Москва намерена любой ценой заключить мир с Варшавой. Согласна, мол, уступить земли, заплатить огромную сумму золотом, лишь бы высвободить войска для борьбы на юге. Борьбы с ним, Врангелем.
Вся Россия была в огне восстаний, как запаленная степь. В одном месте высохший ковыль только тлеет, в другом, глядишь, уже разгорается, а в третьем – полыхает. Бои в Северной Таврии – это ветерок с юга, который хорошо раздувает этот огонь на пространстве бывшей империи.
Он, Врангель, балансирует на шатких мостках, стремясь перейти бурный поток. Франция поддерживает его за руку, но не больше. Строго дозированная помощь. Обещания. Сама Франция в дебатах, забастовках и бесконечных депутатских запросах: «А не является ли Врангель диктатором? А не хочет ли он восстановить империю? А существует ли у него свобода прессы? Права личности? Суды присяжных?»
Врангель вынужден юлить перед майором Пешковым, французским майором и приемным сыном пролетарского писателя, представляющим во французской миссии «европейскую общественность». Пешков недоволен тем, что в крымской печати существует цензура. Недоволен действиями контрразведки. Пешков просит доложить… объяснить… изменить…
Однорукий майор, родом из Нижнего Новгорода, уже представлял «общественность» при Ставке Колчака. Известно, чем все кончилось.
Но приходится прислушиваться. Делать вид, что Врангель ничего не имеет против газетных пасквилей, которые выставляют его на посмешище. Политика, черт бы ее побрал!..
Теперь к скопищу критиков непременно примкнет Слащев. На какое-то время его удастся улестить, задобрить. Но известно, что он в целом не приемлет план войны в Северной Таврии. Как будто у Врангеля есть свобода действий.
Слащев уже не раз называл – пока в узком кругу – Врангеля французским наемником. Главнокомандующему докладывали.
Врангель остановился у окна. Отсюда было видно море – огромное, безмятежное. Это сегодня. А завтра?.. Управлять Россией, даже самой малой ее частью, все равно что управлять морем. Бесконечные распри, сплетни, подсиживания, бунты. А у Слащева слава неподкупного, честного воина, знающего, справедливого. Надо сказать, заслуженная слава. Слово Слащева весомо и значимо. Генерала надо полностью дискредитировать, нанести упреждающий удар.
– Паша, хорошо бы подтолкнуть наших пропагандистов, – произнес Врангель, морщась, с отвращением. – Относительно Слащева. Так сказать, задать тон… Он позволил красным создать плацдарм, подвел армию, поставил под удар Крым… в корпусе разложение, нет дисциплины… прибегает к кокаину, к вину…
Шатилов кивнул головой. Хороший друг Паша, единственный, кто никогда не подведет, но уж слишком легко соглашается. Однако друзей не лепят из воска, как фигуры в паноптикуме. Какие уж есть.
Петр Николаевич повертел в руках изящную ручку с золотым пером, сделанную из диковинного прозрачного материала, – подарок французов. С излишним усилием надавил на нее, стекловидная палочка хрустнула. А говорили – гнется, но не ломается, органическое стекло, последнее достижение химиков.
– Скверно, Паша. Гадость! – сказал Врангель и, уловив удивленный взгляд Шатилова, пояснил: – Это я про политику. Грязная штука. Всегда была и всегда будет грязной.
Розалия Самойловна нервничала. Нет, на фронте все шло хорошо. Относительно. К Перекопу прорваться не удалось, но Каховку удержали и укрепляли ее с каждым часом все сильнее.
Землячка считала, что это в первую очередь заслуга Политотдела группы. Политработники шли во все полки, батальоны и даже роты. Делили с красноармейцами все тяготы военной жизни, шагали первыми в атакующих цепях, и если получалось так, что надо было отступать, то уходили последними, отстреливаясь и прикрывая собою других.
О заслугах Политотдела Розалия Самойловна судила по числу убитых и раненых работников. Это был самый верный показатель. Она всегда указывала эти цифры в отчетах Реввоенсовету, ЦК партии и в письмах, которые посылала лично Ленину. Она полностью доверяла лишь Владимиру Ильичу. Он был не только другом. Спасителем. Когда ее, как котенка, буквально вышвырнули из Восьмой армии якобы за излишнюю жестокость, которую она проявляла не только к врагам, но и к своим, именно Ленин выручил ее. Выслушал, поверил и снова назначил начальником Политотдела, на этот раз в новую для нее, Тринадцатую армию.