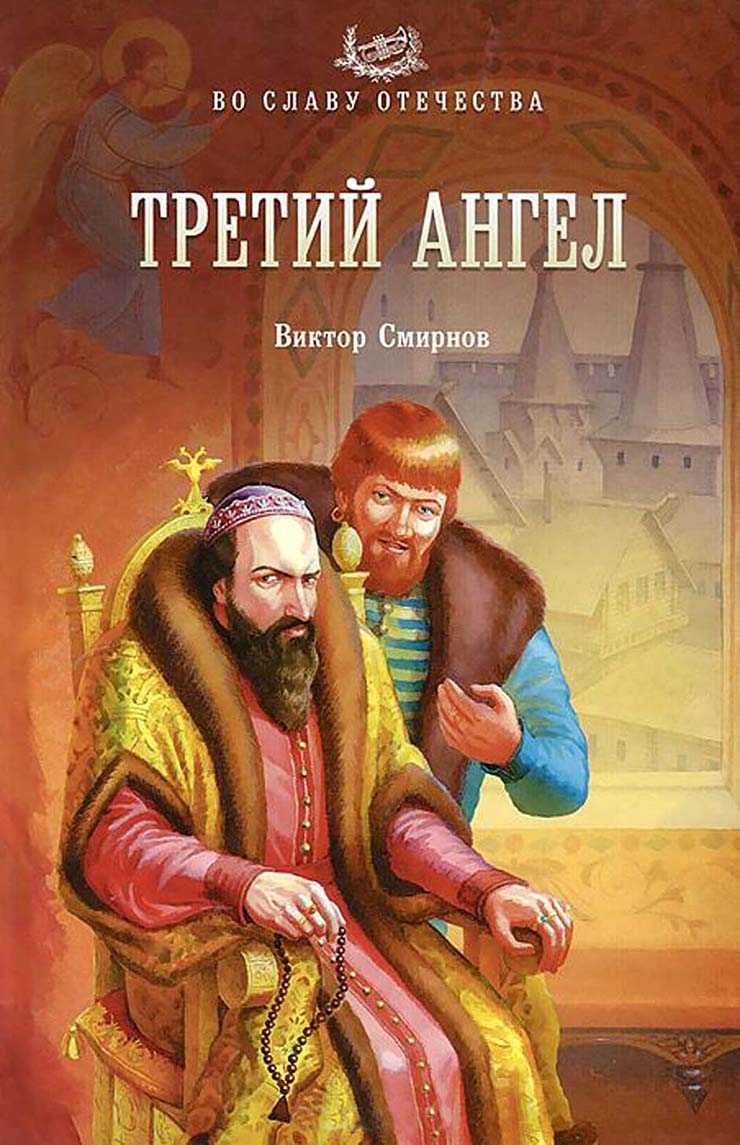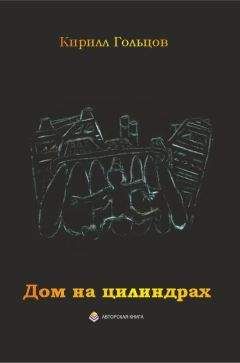Виктор Смирнов
Дорога к «Черным идолам»
Зима рано приходит в старательский поселок Шалый Ключ. Шестого сентября лег снег на вершины гольцов, стало светло и пусто. Утром, выйдя на крыльцо, крепкий старик Дормидонтыч, местный долгожитель, сказал: «Ох-ох, десять месяцев в году зима, остальное время ждем лета».
Фразу эту часто повторяли в Шалом Ключе, она стала неким словесным гербом поселка, жители которого гордились суровостью своей горной жизни.
Поселок стоял в распадке, среди немых и холодных гольцов, кое-где покрытых пятнами чахлого кедрового стланика. В одном месте, как раз напротив избы Дормидонтыча, цепь гольцов была разорвана глубоким и мрачным ущельем. Там, на большой высоте, на длинном карнизе, словно на балюстраде католического храма, стояли темные каменные зубцы, высеченные упорным резцом дождя и ветра.
Время придало зубцам подобие человеческих фигур. Казалось, будто каменные сторожа всматриваются вниз, наблюдая за человеческой суетой. С «Черными идолами» — так называли зубцы — было связано немало легенд и суеверий.
Поселок насчитывал сотню домов и всего лишь четыре десятка жителей: не во всех избах дымили трубы. Шахты, которые тянулись по распадку, образуя под землей немыслимый лабиринт, были вычерпаны. Большинство рабочих переселилось в иные места, где горело электричество, где гремели железом гигантские машины, где жить было уютно, светло и весело. Добыча золота давно утратила трагическую, кровавую романтику фарта и стала рядовым промысловым делом, как добыча угля, нефти или меди.
В Шалом Ключе остались лишь рабочие старательского сектора. Они получили разрешение на промывку золота — «бирки» и добросовестно ковырялись в старых отвалах, сдавая добычу государственному контролеру.
Поселок был тих, благостен и трудолюбив, ритм его жизни выверен и точен, как старые ходики, висевшие в избе Дормидонтыча, в красном углу, на месте киота.
Шестое сентября, день первого снега, положил начало событиям, которые сразу оборвали медлительный ток времени.
Утро началось как обычно. Старатели разошлись по Терриконам, где перебирали породу в поисках «значков» оставленного золота, полезли, как кроты, в старые шахты.
В седьмую шахту, знаменитую тем, что в годы войны она дала рекордное число самородков и золотого песка, спустилась особая бригада старателей, присланная из треста. Бригаду возглавлял Никодим Авраамович, в прошлом один из самых удачливых и толковых бригадиров, известный по прозвищу Кодя-фарт. Из местных жителей в составе бригады был один лишь Веня Дисков, неприметный прыщеватый молодой человек.
Днем, около двух часов, земля над седьмой шахтой содрогнулась от глухого удара. Работавшие на поверхности старатели, чуткие, как сейсмографы, машинально отметили взрыв. Похоже было, что Никодим Авраамович «запалил» внизу старый забой, пробиваясь к нетронутому целику.
В пять часов, как было условлено, бригада должна была подняться на поверхность. Но никто из шахтеров не вышел и в шесть и в семь.
Дормидонтыч первым забил тревогу. Приезжие старатели, давние знакомцы старика, остановились в его избе; он, как обычно, поджидал их из шахты, разогрел самовар, поглядывал в окно. В распадок уже сползлись с гольцов тени, «Черные идолы» насупились и стали еще темнее. Дормидонтыч забеспокоился.
— Нина! — сказал старик своей восемнадцатилетней внучке. — Ступай к Пролыгину, скажи: из шахты ребята не поднялись. Да споро, споро…
Нину долго уговаривать не пришлось. Порывистая, легконогая — ветер! — она мигом выскользнула из избы.
Пролыгин, местный бригадир и общественный уполномоченный милиции, плечистый бородач с узкими спокойно-проницательными глазами, читал месячной давности газету.
Пролыгин был немногословен.
— Пойдем, однако, дочка-ту, — сказал он и через минуту, переодетый в брезентовый костюм, в текстолитовой каске, вышел вслед за Ниной на крыльцо.
По выбитой в пожухлой траве тропинке они прошли к небольшой конусообразной будке, скрывавшей вход в шахтный ствол. Бригадир открыл тяжелые створы ляды [1]. № Из темного зева пахнуло плесенью, подземным теплом и пороховой гарью.
— Ты погоди, дочка, наверху-ту, — сказал Пролыгин и, кряхтя, полез вниз по шаткой лесенке.
Из квадратного провала глядела глухая подземная ночь. Поскрипывала где-то внизу лестница, да чуть слышно шумела вода.
Девушка ощутила прикосновение беды. Ей стало страшно. Пролыгин исчез, его словно поглотила земля.
«Нет, нет, ничего не может случиться», — успокоила себя Нина. Она была в том возрасте, когда сердце открыто людям и мир кажется невыразимо прекрасным, сотканным из добра и счастья.
Но как только исцарапанное, грязное лицо Пролыгина показалось из люка, девушка поняла, что несчастье все же произошло.
— Пойду народ звать, — сказал бригадир, задыхаясь от крутого подъема. — А ты к радисту беги. Скажи, старателей завалило в штреке. Вода поднялась, к завалу не пробраться, насос нужен. Пусть передаст в райцентр.
— Да живы ли они? — крикнула Нина.
— Живы-ту или не живы, спасать надо, — сказал бригадир.
Она помчалась к радиостанции, стуча сапожками по твердой, схваченной морозцем земле. Под этой зимней скалистой коркой, в неведомой глубине задыхались люди! Они барахтались в холодной воде, среди вечной тьмы, ища дорогу к людям. А может… а может. Нет!
Над поселком, заполняя весь распадок, поднимаясь к вершинам гольцов, плыли тугие удары о рельс. Пролыгин сзывал народ.
Было уже совсем темно, только гольцы светились матово, как сахарные головы. Поселковый радист, хромой долговязый человек со странной фамилией Шепеляка, припадая на ногу, сам вышел навстречу девушке. Он жевал на ходу.
— Чего там, красавица, в рельсу бьют? — спросил он.
Нина взглянула на жующего радиста. Худое, скрытое сумерками лицо показалось ей ненавистным. Как он может оставаться спокойным!
Она на одном выдохе выпалила все, что наказал передать бригадир. Радист засуетился. Бросился во двор, где стоял в дощатом сарайчике движок, питавший энергией передатчик. Движок затарахтел, заглушил тревожный набат. В избе, где помещалась рация, вспыхнул яркий свет.
Шепеляка уселся перед рацией, неоновый глазок светился над ним, гудел, как жук, умформер. Длинные, тонкие пальцы повернули верньер.
Нина следила за его уверенными движениями. Эх, если бы она была не восемнадцатилетней, ничего не умеющей, ничего не знающей девчонкой, а взрослым, уверенным в себе мужчиной, как бригадир Коротков или этот радист! Не гоняла бы на побегушках, а вгрызалась с кайлой в руках в скалу, пробивала путь к старателям…
Она с болью ощущала свою беспомощность и никчемность.
— Бесполезно все равно! — сказал радист, повернув к ней бледное узкое лицо. — От Чурыма до нас пять суток пути. Не успеют. Бесполезно! Так?
— А самолеты? — крикнула Нина.
— Ну, легкий самолет, может, и сядет, —