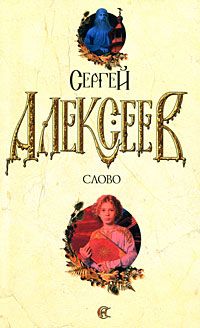— «Скорую»? — насторожился сын.
— Да… Я тут пошумел на него, а он, видно, решил, что я с ума сошел, приступ у меня. Вот и вызвал. У меня как раз Сухоруков сидел, по своей собачке вздыхал. Ну они покрутились и уехали.
— Так, а что с соседской собакой? — Степан улыбнулся, отер уставшее лицо.
— По случайности я ее подстрелил, — с удовольствием объяснил Гудошников. — Тут свора бродячих собралась, ну и его кобель выскочил. А я через форточку из малопульки…
— Давай спать, отец, — вздохнул Степан. — Завтра денек будет!.. Ко мне еще восемь человек положили…
— Ну, ты иди, — не сразу согласился Никита Евсеевич. — А я подожду, пока печь протопится, и трубу закрою.
Степан ушел в спальню, а Гудошникову вдруг стало обидно. Разговор с сыном как-то не склеился, не вышел. Хотел сказать что-то важное, значительное, совета у сына спросить, но ничего толком и не сказал. Он открыл дверцу печи, расшевелил кочергой догорающие поленья и, осененный новой мыслью, торопливо захромал к Степану.
— Слышишь, Степан, — заговорил он, склонясь над кроватью сына. — Что я хотел сказать тебе! Ведь без собрания своего, без этих материалов, я для них ничего не значу! Они же меня в порошок сотрут, растопчут. А так — пускай попробуют! И они примут! Примут и мою методику, и мои предложения. Так что эти книги — заложники мои. Иначе я никого не вразумлю! Это же какая глупость несусветная: лезть в скиты натопом, идти на обман! Не будь ракеты, полетел бы человек в космос? Не полетел бы! А тут думают — на дурачка… Какая глупость!
— Ты прав, отец, глупость, — согласился Степан, укладываясь поудобнее. — Ко мне вот тоже еще восемь человек положили, а я завтра в овощехранилище иду, картошку перебирать…
Гудошникову показалось, что сын мгновенно заснул, и, стараясь не стучать протезом, он вернулся на кухню, к печи, караулить, как бы не вывалился уголек и не случился пожар.
В отделе было по-утреннему пусто, сумрачно и дремотно. За барьером, у старинного письменного стола, скрестив на груди жилистые, натруженные руки, сидела Екатерина Ивановна. Краем глаза она следила за аспирантом, который рылся в каталоге, иногда до нее доносились отдаленные голоса из кабинета Аронова. Она мало вникала в то, что происходило в отделе: работа такая — подай, принеси, вымой, проветри, а то, что ей приходилось видеть и слышать, казалось странным, непонятным. Она неплохо разбиралась в делах сельской библиотеки, потому что вся ее жизнь прошла там, и только вот на старости лет, перебравшись к дочери в город и оказавшись в отделе, Екатерина Ивановна с удивлением обнаружила, что в их книжном мире существует еще один мир, особенный и невидимый со стороны. Над тем, что в сельской библиотеке считалось вредным для читателя, ненужным хламом, здесь буквально тряслись. Могла ли она подумать, что ей придется собственными руками выдавать сочинения каких-нибудь монахов, священников, да еще со строжайшим указом обращаться с книгой, будто с малым дитем? Все книги здесь стояли в застекленных шкафах, а многие даже упакованы в картонные футляры; весной и осенью строго-настрого запрещалось открывать форточки (сыро на улице), зато летом и зимой Аронов иногда просил ее оставить в помещении на ночь таз с водой, чтобы повысить влажность воздуха. Да и люди, что работали в отделе и приходили в читальный зал, тоже были какими-то особенными. То сидят, не разгибая спины, над книгой в полпуда весом, то яростно спорят между собой. И ходят больше все бородатые, бледные какие-то, одень их в рясы, так чистые попы. И запах в отделе больно уж непривычный, не библиотечный: пахнет воском, ладаном. Видно, книги эти так пропитались, так прокурились в церквах, что свой дух и сюда перенесли.
Между тем говор в кабинете Аронова стал чаще, задористей, похоже, заспорили. Хранитель пришел рано и привел директора музея с собой. Все не могут какой-то вопрос решить с книгами. Екатерина Ивановна прислушалась.
— Нет, дорогой Михаил Михайлович, — бубнил Оловянишников. — Все это похоже на авантюру… Я уже раз с вами связался. Я вам деньги на экспедицию дал? Дал. Где же ваша экспедиция? Тут же все вилами на воде писано. А потом, дорогой Михаил Михайлович, что я буду иметь от этого собрания? Вы же его себе приберете, а музею — на тебе боже, что нам негоже.
— Не волнуйтесь, там и для вас много чего, — будто отстреливался хранитель. — Я бывал у него, знаю. Все, что не имеет археографической ценности… — я повторяю: археографической, а не ценности вообще, — возьмете вы. В конце концов, музей — не библиотека.
— Но и не мусорная свалка! — резал директор музея. — В таком случае, давайте заранее обговорим, что конкретно.
— У Гудошникова в собрании нет мусора, — отрубил Аронов. — И вообще, мы делим шкуру неубитого медведя. Сначала нужно спасти коллекцию… Вы обещали проконсультироваться с психиатром, ну, вашим знакомым… Что?
Екатерина Ивановна не дослушала, потому что на пороге отдела появился человек в стеганке и сапогах.
— В грязной обуви нельзя! — предупредила она и заспешила к дверям.
— Мне бы товарища Аронова… — несмело сказал мужчина и отступил назад, глядя на свои сапоги.
— Михал Михалыч занят.
— Но я спешу… Меня ждет машина… Мне на несколько минут. Это очень важно для него, — пришедший глядел открыто, даже как-то виновато и, по мнению Екатерины Ивановны, опасности не представлял. Тем более одет он был как свой брат колхозник…
Она дала ему тапочки и синий халат вместо фуфайки, проводила в кабинет.
И едва он ступил туда, как говор стих, а потом и вовсе прекратился. В отделе снова наступила тишина, и только аспирант в дальнем углу читального зала медленно шуршал карточками каталога…
— Вы напрасно приходили к отцу, — начал Гудошников-младший, когда Аронов понял, кто к нему пришел, и усадил нежданного гостя к краю стола. — Он очень сильно переживает вашу встречу, волнуется, а это ему вредно. Я говорю вам это как врач. Прошу вас больше так не делать.
Хранитель окинул взглядом гостя, вздохнул:
— Я вас понимаю. Но у нас не было другого выхода. Никита Евсеич долго работал среди старообрядцев, у него есть пофамильные списки, списки книг… А мы сейчас разворачиваем программу…
— Знаю, — перебил его Степан. — Но вы поймите: отец болен! Его нельзя волновать. У него развивается паранойя. Этакое болезненное желание переустроить мир, жажда новшества… Тяжелые бредовые переживания.
Аронов и Оловянишников переглянулись.
— Вы это говорите как врач? — спросил хранитель.
— Да… Правда, я не психиатр… но у него все признаки, — Степан задумался, перевел дух. — Его слишком долго не понимали, а он боролся всю жизнь. Это уже, так сказать, результат его переживаний. Последнее время сидит, сочиняет какой-то сказ о судьбе письменности и литературы на Руси… Днем пишет, а по ночам читает мне. Он немного успокоился за этой работой, в себя пришел.