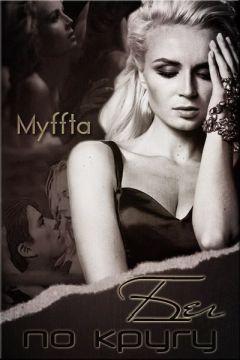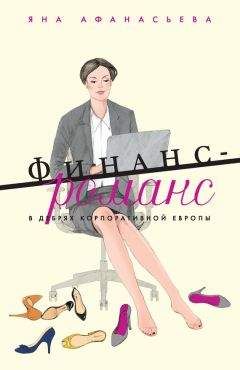— Непременно! Я познакомлю вас с моей женой, она будет так рада...
— Только без юбок! — поднял предостерегающе руку Хепси. — Мы мужчины, а бабы пускай себе группируются отдельно. Не принадлежу к старым холостякам, но...
Из мрачного здания Кемпер вылетел, словно бы после награждения орденом. Предупрежденные, видимо, часовые молча пропускали его, двери открывались, еще не успевал он до них добежать, даже сопливый нахал возле шлагбаума отдал честь доктору, когда тот проходил мимо него, и, расставив ноги, смотрел вслед машине, пока та не скрылась за поворотом шоссе.
Минотавр выпустил свою жертву.
3.
Слова входят в нашу жизнь, как люди. С малых лет Богдане почему-то редко встречались слова: доброта, чуткость, сочувствие, жалостливость.
Как-то она проснулась и впервые узнала о существовании слов «счастье» и «несчастье». Люди просыпаются счастливыми или несчастливыми, хотя, к сожалению, им чаще приходится просыпаться несчастливыми, особенно малым детям в тех краях, где звучат выстрелы. Богдана проснулась однажды и от заплаканной матери узнала, что нет в живых ее отца.
Мария не могла больше жить в лесу, она взяла маленькую дочь и перебралась в город, где были люди, где ее отчаяние, она надеялась, уменьшилось бы. Дочь немного поплакала — не так по отцу, как по лесу и птичкам, а потом начала привыкать к новой жизни и уже ничем не выделялась среди других детей, разве только чуткой душой, но это мог заметить лишь тот, на которого эта чуткость пролилась бы. Марии хотелось счастья дочери. Хотелось, сама не ведала, чего.
О, эти одинокие наши матери! Испив полную чашу горя, настрадавшись на холодных ветрах судьбы, они жаждут для своих детей всего самого хорошего, жаждут отвратить от них самое малейшее зло, мечтают, чтобы детям достались самые счастливые профессии: великих артистов, писателей, генералов...
Богдане отводилась в жизни роль певицы. Девушка унаследовала от отца лесную красоту, у нее были светлые волосы и прозрачно-голубые глаза, а от матери — голос, глубокий, с плавно густыми переливами. Богдана стыдилась петь на людях. Видимо, ее не очень привлекала будущность, нарисованная матерью. В школе она если и пела, то только в хоре, а дома, когда мать заставляла ее петь для гостей, девушка требовала гасить свет.
Вот в это время и прибился к ним из Львова Ростислав Барильчак, который некогда учился вместе с Марийкиным братом Яремой, но потом его отец, обучавший будущих иезуитов гармонии и церковному пению, сумел вытащить своего Ростика из иезуитского убежища и направить по той самой дороге, по которой испокон веков шло поколение Барильчаков — музыкантов божьей милостью. Ростик учился в высоких школах и консерваториях, ухитрился не примкнуть ни к какой партии, счастливо избегал и завоевателей, и бандитов. Советскую власть хотя и не приветствовал с преувеличенной искренностью, но и к ее врагам не примыкал. Теперь он занимал значительное место в музыкальной иерархии большого города, именовался громко: «концертмейстер», ходил по земле гордо и твердо, оттопыривал губы, встряхивал курчавым черным чубом, плавно разводил перед вашим лицом руками. Артист! Маэстро!
Он объявился в их городке, навещая дальних родственников, потому что уже не было у него ни отца, ни матери, остались только двоюродные дяди и троюродные тети. К Марии заглянул, чтобы вспомнить о Яреме, а поскольку она не очень хотела заводить речь о своем преступном братике, то Ростислав обратил внимание на ее дочь — десятиклассницу, узнал совершенно случайно, что у девушки голос. Тут-то все и завертелось.
Сейчас трудно сказать, какими чувствами больше руководствовался в тот момент Ростислав. То ли ему очень хотелось загладить неуместность своих расспросов о Яремке, потом Яреме-эсэсовце, а там еще и бандюге, о роли которого в убийстве мужа Мария кое-что знала, а еще больше догадывалась. То ли Ростислав просто хотел помочь бедной вдове? Или же, не исключено, понравилась ему тоненькая беленькая девочка, нежная, как весенний стебелек, тонкая, стройная, с прекрасным чистым голосом и лучистыми глазами? Кто его знает, о чем думал этот дебелый мужчина, чуть ли не вдвое старше Богданы, когда размахивал руками перед лицом Марии и разглагольствовал о высоком искусстве, о своих заслугах в нем, а более всего — о своих связях, потому что заслуги заслугами, а без связей, как лошадь без упряжки: ни тпру ни ну!
Очень скоро выяснилось, что он умеет не только разбрасываться обещаниями, но и дело делать. Богдану приняли в консерваторию, предоставили место в общежитии, Ростислав помогал ей деньгами и советами, нанялся к ней добровольным наставником, личным концертмейстером. Она с первого же курса готовилась как известная опертая певица. Немного растерявшись в большом городе, неосознанно тянулась к Ростиславу, который со словами «Золотко мое» делал для нее, казалось, так много. Богдана усматривала в нем чуть ли не отца родного, и он воспользовался ее доверчивостью и, выждав для видимости какое-то время, взял ее в одну из весенних ночей, взял спокойно, холодно, словно вещь, которая давно ему принадлежала, а она так привыкла подчиняться ему, что не могла решиться хотя бы на незначительное сопротивление. Потом он заставил Богдану написать матери письмо, что она не может без него, что любит Ростислава и хочет выйти за него замуж.
У него был весьма солидный опыт с женщинами, и он хорошо знал, что ослепленность Богданы рано или поздно исчезнет и тогда он потеряет ее, знал, что выпускать ее в широкий свет, на большие оперные сцены — значит потерять тотчас же. Потихоньку он стал делать все, чтобы приготовить из нее этакую маленькую филармонийную певичку, пренебрежительно говорил о талантах, о призвании, о вдохновении, о славе. Она слушала и не слушала. Загадочность, которая так поразила его в десятикласснице, с годами не пропадала в ней, внешне Богдана совершенно не изменялась, в душе, очевидно, тоже. Заглянуть в ее душу Ростиславу не удавалось ни за какие деньги, он вертелся вокруг своей молчаливой, задумчивой жены и чувствовал, что чужд ей, что она как была, так и осталась равнодушной к нему. Предотвратить разрыв было так же невозможно, как невозможно удержать артиллерийский снаряд, который, будучи выстреленным из далекого орудия, летит на тебя, чтобы взорваться и рассыпаться на осколки, разрывая и тебя самого. Внешне грубоватый и циничный, даже в своих взглядах на музыку и жизнь, Ростислав обладал той необходимой дозой внутренней интуитивной чуткости, которая всегда своевременно предупреждала его о близкой опасности. Это был себялюбец с вмонтированной в него естественной радарной установкой, похожей на ту, которой обладает летучая мышь.