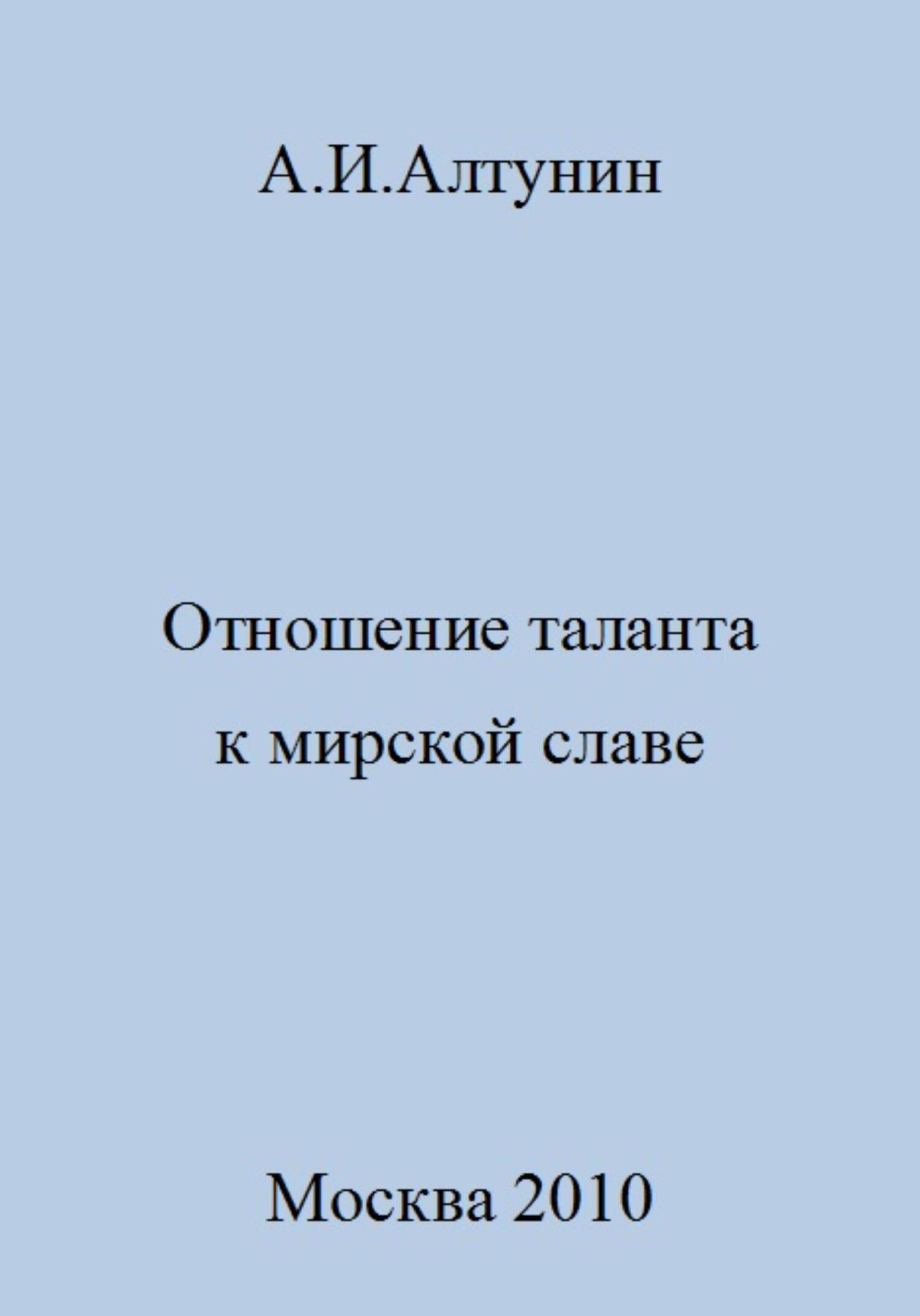лазарете, который уже переправился и разворачивал свой шатер недалеко от берега, Болдина посетил генерал Брусилов.
Подошел, нежно пожал руку, сказал:
— Павел Александрович, спасибо.
Болдина выписали из госпиталя в середине февраля 1917 года.
В ночь осмысления и переосмысления всего прошлого и безнадежного заглядывания в будущее, в ночь, когда он силился представить себе, что ждет страну, что ждет семью, его самого через год, два, три, и когда старался найти ответ на вопрос, что необходимо сделать сегодня, чтобы об этом не пожалеть завтра, он напоминал шахматиста, погруженного в рассмотрение бесчисленного множества вариантов, возникающих за доской, и понимающего, как мало отпущено ему времени для того, чтобы найти единственно правильные, единственно допустимые ходы.
Павел Александрович попросил денщика Прохора спуститься вниз и найти извозчика.
Была одна только ночь, в течение которой он должен был принять решение. Он сидел, сжав голову руками, над газетой «Известия», читал о голоде, о холоде и думал, что стало, что станет с Россией, если победят большевики, если победят... на что сможет он рассчитывать, каким доверием у них пользоваться, он — царский офицер.
Жизнь казалась ему конченной, по крайней мере, на родине.
У него была одна только ночь на размышление, ночь, от которой зависели многие тысячи ночей и дней и в его жизни, и в жизни Ксении, и в жизни его дорогого Коленьки.
В самом конце мучительной, длинной, тягучей ночи, будто бы скинув с плеч тяжкий груз, Болдин сел за листок бумаги и начал писать быстрым, ровным, уверенным почерком в Торжок Николаю Федоровичу Чинику:
«Я принял, уважаемый Николай Федорович, решение, о котором, весьма возможно, буду жалеть. Но если бы я принял решение противоположного свойства, вероятно, жалел бы больше. Мне не по пути с тем, что обозначается все явственнее и надвигается неодолимо. Я уповаю на милость божию и сердцем верю, что ненадолго наша разлука. Не знаю пока, что ждет меня в далеких краях, но я, царский офицер, не слишком подхожу новой власти, так же как и она не слишком подходит мне. Излишне говорить, что ныне вы вступаете во владение всем, что принадлежало мне: и домом и тем, что в доме. Соответствующее распоряжение я пересылаю через Прохора вместе с документами. Если же они не будут иметь той силы, которую имели до сих пор, не сетуйте, дорогой Николай Федорович, возьмите с чистым сердцем все, что дома. Это неделимо, это мое, а значит, ваше, и никто не посмеет это у вас отобрать.
Ксения сидит в другой комнате. Она еще не знает, что через десять - пятнадцать минут, закончив это письмо, я соберу все, что может поместиться в пролетку, и кучер довезет нас с Ксенией и с Николаем до порта. Две последние ночи я не спал, и все же решение мое трезво и твердо. Я обнимаю вас, нежно прикасаюсь сердцем к сердцу. Прощайте, не забывайте и не осуждайте меня. Ваш Павел Болдин».
Ксения ждала мужа, сидя на кровати, и то и дело бросала взгляд в сторону заснувшего сына... Она ждала, что скажет
Павел. Видела луч света, пробивавшийся сквозь замочную скважину, догадывалась, что муж сидит и пишет, и казалось ей, что она слышит скрип пера. Если он пишет, то кому, что?
Ей очень хотелось встать, подойти к мужу, сказать:
«Павел, родной. Куда нам еще с тобой и с Коленькой?.. Перемелется — мука будет. Все обойдется. Главное — вместе, дома. О чем еще можно мечтать в такое время?»
Но Ксения не решалась подойти к мужу и произнести эти слова. А что, если он послушает ее совета, они вернутся в Торжок и там его арестуют? Если это случится, как будет чувствовать она себя, что найдет в оправдание? Что скажет и объяснит сыну? И потом, разве вся жизнь не научила ее повиноваться душой и мыслью сильному, умному, никогда не теряющему спокойствия мужу.
Вошел Павел:
— Ксения, буди Николеньку, собери все самое необходимое в этот саквояж и еще вот в этот чемодан. Едем, Ксения.
Ксения ничего не ответила, только постаралась перехватить беспокойными глазами взор мужа, приковать его к себе и заставить хотя бы на минуту подумать: а единственное ли это решение? Едем — это значило не в Торжок. Тогда у него было бы другое выражение лица, он улыбнулся бы, как человек, который стряхнул с себя все заботы, переживания и сомнения. Его «едем» означало «к пристани, на пароход».
Она прошептала:
— Да, да, Павел. Я сейчас, я быстро, вот только Коленьку разбужу.
Прохор помог снести в пролетку два чемодана, саквояж, котомку. Коля, еще не окончательно проснувшись, только в пролетке спросил:
— Куда мы, к морю?
И понял все. И уткнулся матери в живот, неловко всхлипнул. Отец, сидевший рядом с кучером, обернулся и сказал:
— Николай, ты взрослый парень.
Стоял и долго махал рукой Прохор. Зажав в левой руке империал, задумчиво смотрел вслед, словно спрашивал себя: «Куда это они? Что станет с ними? А что станет со мной?»
...В тот же день неуклюжий пароход «Цицерон», приняв на борт столько пассажиров, сколько не принимал никогда, смачно зашлепал по гладкому морю лопастями, словно в неохотку вышел из порта, развернулся и двинулся к Босфору.
Болдин не понимал оставшегося в России Брусилова.
— Будет плохо отчизне,— твердил Брусилов,— будет плохо и мне. А хорошо ей...
— Алексей Алексеевич, когда ей будет теперь хорошо, матушке-России? Вы один из самых чтимых в Европе русских. Вы должны это сделать не только для себя, но и для будущего России, если только у нее есть теперь будущее. Вы должны уехать, быть с нами.
— Нет, господа, нет. Я остаюсь.
Павел Болдин
«На «Цицероне» отправлялась в Константинополь семья полковника Семенова-Селезневского: он, супруга и мать. Увидев на горизонте огни Босфора, мы спустились в буфет и распили бутылку коньяку за скорое возвращение домой, за благополучие близких, оставшихся в Советах.
Владимир Станиславович неожиданно быстро захмелел и вдруг изрек:
— Я всю жизнь жалел, что у меня не было детей. Всегда казалось — чего-то не хватает. А сейчас... Благодарю судьбу. Не могу представить... Надеюсь, вы меня поймете и не сочтете бестактным... Одним словом, не представляю, как мог бы я воспитать русского сына в туретчине или бог знает где еще, куда занесет.
Я мог бы ответить ему, вспомнив слова одного мудрого француза: «Если к сорока годам дом не наполняется детскими голосами, он наполняется кошмарами».
— Ну дожили,