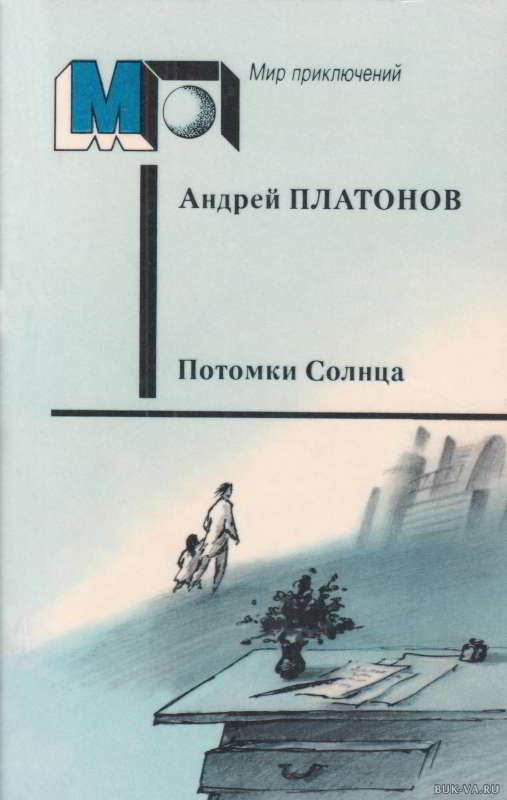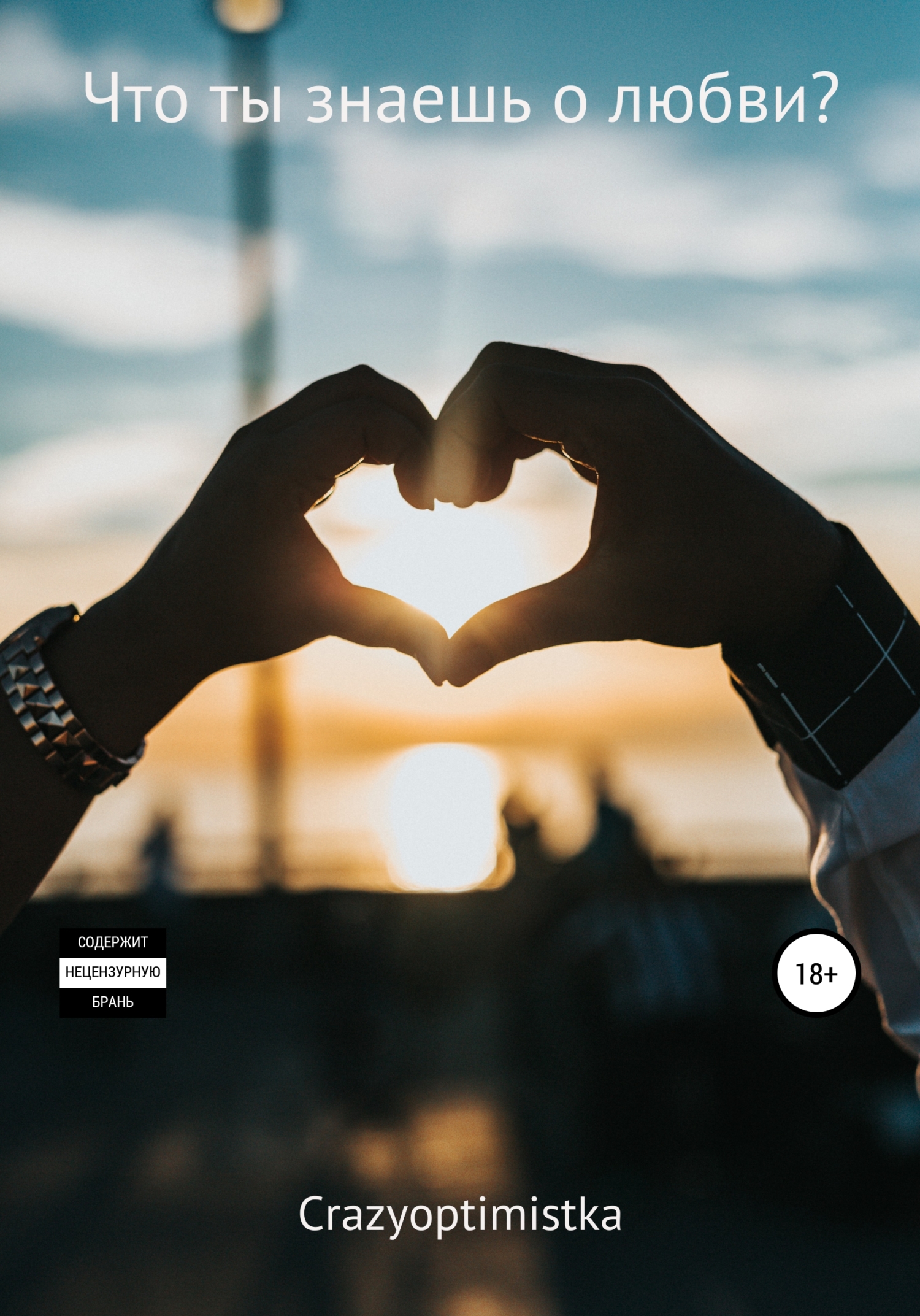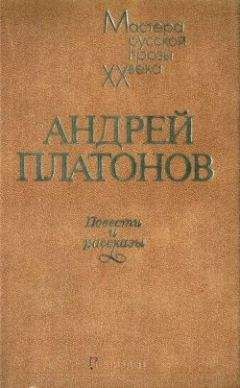пищу у рта, с сознанием необходимости и с кроткой задумчивостью, точно представляя в своем воображении лица и душу тех людей, которые тяжко добыли эту пищу и подарили им ее.
Чагатаев терпеливо жил дальше, подготовляя тот день, когда он начнет осуществлять настоящее счастье общей жизни, без которого нечем заниматься и сердцу стыдно.
Изредка он говорил с матерью, она ничего теперь не просила у него, только гладила его ноги и тело поверх одежды; он держал ее согнутую голову близ своего живота и думал о том, что ему надо сделать, чтобы искупить и утешить это почти уничтоженное существо, внутри которого он начал жить. Он не знал, что его мать вспоминала о нем лишь благодаря укорам со стороны Айдым и втайне утирала слезы, понимая, что надо любить сына, и не имея, не помня его больше в своем чувстве; поэтому она трогала его, как всякого чужого и доброго.
Через несколько дней сильно захолодало, в одном доме пришлось жарко истопить печь и заодно приготовить обильный обед, потому что печь служила и для тепла и для кухни. В других домах печей не было устроено. Сильный ветер дул с высот Усть-Урта и нес в воздухе мелкий обледенелый снег. Айдым привела овец в горницу дома, где ночевала сама, и оставила их там на ночь. Чагатаев с трудом привез воду с озера на самодельной тачке в пяти бурдюках; он поднимался на плоскогорье против обрушивающегося на него ветра и толкал тачку в упор с большим напряжением. И этот ветер, и ранняя зимняя тьма во всем мире, и пустая смертная впадина Сары-Камыша, куда хотел свалить и унести Чагатаева ветер, — все убеждало Назара в необходимости особой, другой жизни.
В одном жилище шевелились люди, внутри его горел свет из открытого входа. Там кончили обедать и дремали; Айдым гремела новой посудой, убирая всякую нечистоту и остатки, и говорила людям, чтобы они ложились сегодня на ночь здесь, где было натоплено; пусть будет тесно, но зато тепло.
Времени было часов шесть, но весь народ уже улегся в одной горнице, близко друг к другу, и спал в тесноте, как в блаженстве. Чагатаев пообедал стоя, сесть было негде.
Айдым пошла ночевать в другой дом, куда она загнала овец, и туда же пошел спать Чагатаев.
Наутро пошла метель, но потеплело. В общей курганче не было никакого звука, хотя вовсе рассвело. Айдым спала в тепле среди двух овец. И овцы спали, один баран глядел как безумный на Чагатаева. Чагатаев не хотел будить Айдым, но сам пошел в теплый дом, где спали все люди. Там он зажег лампу и осмотрелся.
Народ спал в том же положении, как вчера, точно никто не повернулся за долгую ночь. Многие лица лежали теперь в постоянной улыбке. Слепой Молла Черкезов спал с открытыми глазами, подложив левую руку под спину Гюльчатай, чтобы постоянно чувствовать и хранить ее. Старый перс по прозвищу Аллах глядел вполовину одного ясного глаза, и Чагатаев не мог понять, что видит и думает сейчас этот человек, какое желание души скрывается в нем: то ли самое, что у Чагатаева, или совсем иное.
Весь остальной день Чагатаев просидел около Айдым, любуясь ее лицом, ее дыханием, рассматривая румянец юности, который все более покрывал ее щеки по мере течения долгого сна. Овец он выпустил на снег — пусть они пороются и поваляются в чистоте зимы. Затем Чагатаев взял руку Айдым в свои руки, молчаливо радуясь, что вокруг этого бедного нежного существа железной стеной защиты стоят большевики, и он сам лишь для того здесь и находится.
К вечеру Айдым проснулась. Она поругала Чагатаева — зачем он ее не разбудил раньше и у нее весь день пропал.
Чагатаев сказал ей, чтоб она пошла [потрогала] остальной народ — он тоже лежит, не поднимается. Айдым, услышав такое, даже вскрикнула от ожесточения и побежала в соседний дом. Айдым подняла травяной мат над входом, чтобы холод обдал людей и они проснулись бы. Однако спящие только теснее прижимались друг к другу, съеживались, ухмылялись и спали по-мертвому.
Прошла вторая ночь. Наутро Чагатаев опять осмотрел спящих. Лица их еще более изменились, чем вчера. Старый Ванька покраснел от оживления, и теперь ему на вид было лет сорок; даже ветхий Суфьян подобрел наружностью и имел сейчас в выражении лица какую-то заинтересованность. Кара-Чорма, человек лет шестидесяти, лежал розовый и опухший и дышал воздухом с глубоким чувством, как будто питаясь влагой во время жажды. Склонившись к матери, Чагатаев не увидел изменения в ее лице; Гюльчатай, горный цветок, могла совсем не проснуться, ее глаза завалились, щеки потемнели, печать земли легла на нее.
Зрачки Моллы Черкезова по-прежнему были открыты, в них появился далекий блеск, как будто проникавший из глубины мозга, и Чагатаеву показалось, что у этого человека появилось теперь зрение.
Назар истопил печь для тепла и пошел с Айдым гулять; впервые за много месяцев он имел свободный час. Метель прекратилась еще ночью; сейчас падал редкий последний снег, и на самой высокой террасе Усть-Урта уже блестел солнечный свет, веселый, ослепительный, обещающий вечное торжество. Айдым смеялась и бегала по снегу; она исчезала далеко, проваливалась в ущелья, забитые снегом, и неожиданно кидалась сзади Чагатаеву на шею. Наконец он схватил ее к себе на руки и побежал с нею к пропасти.
Она заметила его намерение.
— Бросай, я не умру! — сказала Айдым.
Во время возвращения домой Айдым шла самостоятельно, рядом, и спросила Чагатаева:
— Назар, они когда проснутся?
— Скоро, скоро… Может, просыпаются уже.
Айдым задумалась.
Печь в доме еще не угасла совсем. Чагатаев растопил ее снова, и вместе с Айдым они сварили обед на весь народ, на всякий случай.
К вечеру некоторые из людей начали просыпаться.
Первым проснулся Суфьян, затем Старый Ванька и Молла Черкезов, в полночь встали все, кроме Гюльчатай. Она умерла.
Чагатаев перенес ее в свободный, холодный дом и положил на постель из высохшей травы. Опомнясь от долгого сна, народ сел обедать в теплом глиняном жилище, а Чагатаев лег рядом с матерью и уснул.
Айдым кормила народ обедом и попрекала его, что он спит по две ночи подряд, а жить одну жизнь не может.
Старый Ванька захохотал над нею.
— Теперь мы помрем! — говорил он. — Не горюй о нас, девчонка…
На ночь Айдым ушла в дом, где лежал Чагатаев с покойной матерью. Она смирно улеглась в углу и сразу уснула. На рассвете она поднялась и вышла по хозяйству.
Натопленный