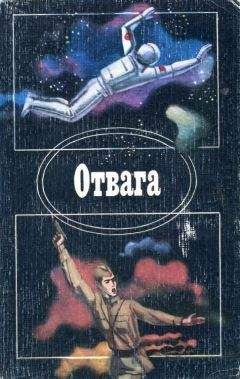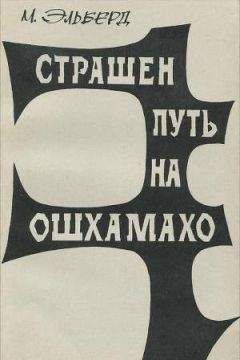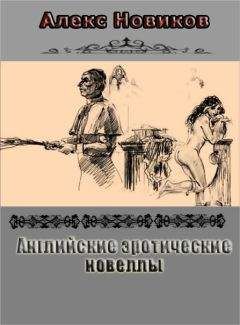Тридцатого вечером, вернувшись домой, я застал у нас капитана Батурина. Было похоже, что у него какой-то серьезный разговор с Моложаевым по комсомольской линии. Но я не угадал — Батурин, как оказалось, пришел по мою душу.
— Вы лейтенанта Зазимко знаете? — спросил у меня Батурин, когда я разделся.
— Разумеется, товарищ капитан!
Действительно, секретарь партбюро задал мне довольно странный вопрос: лейтенанта-инженера Зазимко прекрасно знал весь дивизион. Это был во всех отношениях мировой парень, «ас электроники», как нередко называл его сам подполковник Мельников, самый молодой из молодоженов в дивизионе и руководитель нашего эстрадного ансамбля. Жена его — Анечка — пела в этом ансамбле, и пела «недурственно», как великодушно отметил однажды Гелий Емельянович, и вообще это была такая счастливая и светлая пара, что у многих из нас, людей все-таки довольно сдержанных, оба они вызывали восхищение, и мы так и называли их — «Юрочка и Анечка». Даже Нагорный ни разу не сказал о них никакой пошлятины, кроме того, что иногда аттестовал Юру Зазимко «малость чокнутым».
— Нелепо как-то все вышло, — продолжал Батурин, и я насторожился: что могло случиться с этими милыми ребятами?
— А именно?
— Дежурить его на Новый год поставили. По дивизиону. Начальник штаба спланировал, не особенно вникая, командир дивизиона подписал…
— Не повезло Юрочке. Но служба есть служба.
Черт его знает, почему я сказал такую глупость.
Батурин пожал плечами:
— А кто с этим спорит? И сам Зазимко не спорит. И Анечка его тоже не спорит. Не спорит и не огорчается, воспринимает как должное… Но мы-то люди! И потом — оркестр. Но это в конце концов не главное: в оркестре у него помощник есть.
— Все ясно. Насколько я понимаю, Зазимко…
— Погоди, Саша, — остановил меня Моложаев. — Зазимко никого ни о чем не просит и не попросит — я его знаю. Речь о другом: мы сейчас тут подыскиваем, кого можно попросить, чтоб его заменил. Только из холостяков, конечно. Первая кандидатура моя. Правда, я на Октябрьский праздник дежурил, но это не суть важно… Нагорный отпадает — дежурил две недели назад и, конечно, встанет на дыбы. Да и командование не пойдет навстречу — человек ненадежный.
— Значит, остаюсь я? — спросил я.
— Ты и я, — уточнил Моложаев.
— Хорошо, — сказал я.
— Остается еще моя бабушка, — засмеялся Батурин. — Она всегда как штык. И только недостаток знаний и опыта по части дежурства…
— Я же сказал: хорошо! — не очень вежливо перебил я секретаря партбюро. — Решим это дело в рабочем порядке, имея в виду мою кандидатуру, и утром сообщим самому Юрочке. Только он не взовьется? Он же парень гордый.
— Не взовьется, — успокоил меня Батурин. — Если умненько подойти. Ну вот вы сами поставьте себя на его место. Первый год службы, молодая жена, дальняя точка, новогодний офицерский вечер, хочется повеселиться, потанцевать, а командование не нашло ничего лучше, как послать этого самого молодого супруга в суточный наряд — дежурным по части!
Я представил. Я осмелился и представил на мгновение, что я здесь не один, а с Риной и что я вдруг узнаю, что именно тридцать первого декабря назначен дежурным по дивизиону. Конечно же, я никому не скажу за это спасибо, мы с Риной как-нибудь это переживем, но в душе у меня останется горечь от того, что командование, составляя график дежурств, не особенно думало о людях, а среди моих холостых товарищей все оказались черствыми, бесчувственными и равнодушными. Нет, я никого ни о чем не пойду просить, но пусть после этого меня кто-нибудь попросит!
— Товарищи! — взмолился я. — Я уже сказал: считайте, что в ночь под Новый год по дивизиону дежурит лейтенант Игнатьев. С Юрой Зазимко я поговорю сам. И к командиру дивизиона могу пойти сам. Все будет в лучшем виде.
Буду откровенен: в моем поступке все-таки было немало эгоизма. И если хотите — трусости: я боялся веселья других, потому что сам в эту праздничную ночь не смог бы веселиться так, как веселились они.
Мы были в привилегированном положении — могли встретить Новый год дважды: сначала — по местному времени и по-настоящему — когда в Москве на Спасской башне часы пробьют двенадцать.
На первую встречу я не пошел, но без пяти двенадцать по-московски оставил своего помощника на четверть часа за себя и, не одеваясь, побежал через дорогу в кафе.
Над городком нашим стояла удивительная таежная ночь — синяя, с крупными морозными звездами, с морозной тишиной и с черным таинственным кедровником вокруг. Окна светились только в штабе, в моей дежурной комнате, на КПП в проходной и в нашей столовой, превращенной на эту ночь в кафе «Ракета».
В нешироком коридорчике с явно перегруженной вешалкой курил не очень веселый для бала и изрядно уставший от хлопот Моложаев.
— Без пяти, — сказал я, ткнув пальцем в часы.
— Знаю. Идем.
В маленький зальчик мы вошли с ним вместе. Столы стояли тут ближе к стене налево, а вся остальная часть зала была отдана танцующим. Музыка не играла, и разговоров почти не было слышно — был включен телевизор, и все слушали Москву.
Моложаев подвел меня к одному из столиков.
— Забронировал для тебя.
Я сел, кивнул двум техникам с СНР, сидевшим за этим же столиком. Моложаев тем временем взял бутылку шампанского и стал потихоньку ее раскупоривать. Пробку он вынул мастерски — с чуть слышным хлопком и хотел налить мне.
— При исполнении не употребляю.
— Понимаю, понимаю. Все правильно. Это чисто символически.
Он действительно налил мне на донышко.
— С Новым годом, дорогие товарищи! С новым счастьем! — провозгласил московский диктор.
— С Новым годом!
Мы все встали. Зазвенели бокалы, и их звон слился со звоном курантов — они позванивали так, словно взбегали вверх по серебряной лесенке навстречу первому, мощному, гулкому удару кремлевских часов: б-бам!..
Я попробовал представить себе, где сейчас отец, что делает Рана, и мне опять стало грустно-грустно, как бывало почти всегда, когда я вспоминал их обоих.
Мне почему-то казалось, что нас обязательно в эту ночь поднимут, и, вернувшись к себе, я почти машинально надел шинель, чтобы быть готовым к этому, как положено и раньше других. Но телефоны молчали, линии громкой связи молчали тоже, на панелях тускло поблескивали невключенные табло световой сигнализации. Был ярко освещен только мой стол — с инструкцией дежурному и несколькими специальными таблицами под стеклом. Вроде бы ничего не обещало тревоги. А я сидел и ждал. Временами я поднимался со стула и начинал мерить шагами комнатушку. Семь шагов вдоль, восемь — поперек. Я ждал, потому что я сам и из рассказов «бывалого» армейского народа знал, что начальство любит иногда устраивать такие штучки — поднимать подчиненных по праздникам да еще в самое неподходящее время.