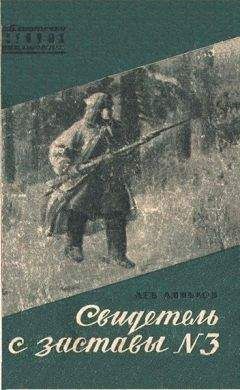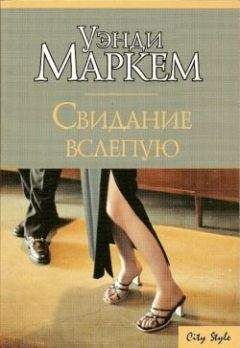«Пушкарь! — Сержант обернулся к бегущему следом вожатому. — Что там?»
Но встревоженный вожатый, спеша на отчаянный зов, даже не вник в смысл вопроса сержанта. В безошибочной догадке он понял, что причиной происшествия был не сучок, не острый обломок камня или какой-нибудь торчащий из земли металлический прут. Он и до сих пор, хотя минул не один год, еще хорошо помнил, как Арчи получил свою первую в жизни рану и какой у него при этом вырвался крик. Пес тогда был, в общем, щенком, десятимесячным недотепой и неслухом, и однажды, резвясь в темных дебрях Измайловского парка в Москве, встал дыбом на выскочившего откуда-то из боковой аллеи мужчину, которого, как потом выяснилось, преследовал милицейский патруль. Неосознанно, скорее случайно почуяв опасность, Арчи в прыжке сбил мужчину с ног и в тот же миг горестно, как бы недоуменно, взвыл…
О, этот вопль! И по сей день звенит он в ушах высокой захлебывающейся нотой с отчаянной мольбой: «Помоги!»… Понимая, как лишне думать сейчас о самом худшем, отвлекая себя от мыслей о неотвратимом, Пушкарев обрывочно вспоминал, как тогда на 16-ю Парковую, где он жил вместе с родителями, специально приехал начальник отделения милиции, с каким торжеством, на глазах у всех соседей, вручил владельцу «отважной овчарки» грамоту и черный пластмассовый фотоаппарат «Смена» — за «решительную помощь органам» в задержании особо опасного преступника… Грамота уцелела, со временем только обтерлась, потеряв глянец и новизну, а вот фотоаппарат попался ерундовый, чаще ломался, чем снимал, все ходил по рукам дворовой пацанвы, пока совсем не пропал. А сколько ночей Пушкарев не спал, чтобы выходить друга, поставить его на ноги, спасти, — страшно вспомнить! Неужели все ради того, чтобы Арчи снова, во второй раз попал под нож, рухнул обездвиженно на месте, не в силах больше достать своего врага?..
Арчи они отыскали не сразу. Он лежал ничком на боку в тихом, с виду таком мирном месте, и было похоже, что он выбрал прохладную плешку меж ельничков для отдыха и восстановления сил, но сейчас легко вскочит и поспешит на хозяйский клич. Сразу-то и крови никто не заметил. Но она была, была… Удар пришелся между лап, точно в грудь. Видимо, его нанесла обманным движением опытная рука — очень опытная и уверенная рука, иначе бы Арчи увернулся и не дал себя обхитрить, как всегда уворачивался, еще когда Пушкарев его обучал, загодя готовил к службе. И вот приготовил…
— Арчи, Арчонок… — шептал Пушкарев почти беззвучно, потому что и у самого сил оставалось все меньше: ослабевший Арчи свисал с рук Пушкарева как бесформенный куль и был неимоверно тяжел. Пушкареву все чаще казалось, что до затерянной неведомо где машины он не дотянет, рухнет тут со своей неудобной ношей и никогда не подымется… Однако шел и шел — не из упрямства или большой воли, а скорее механически, будто и не он.
Думать же — просто думать — было сподручней, легче. Мысли его были лоскутны, обрывочны, почти не имели между собой связи. Но благодаря им Пушкарев хоть немного забывался, отвлекая себя от мрачных предчувствий. И только один вопрос возвращался к нему с неизменным постоянством: «Кто же тебя зацепил, Арчилка, какой негодяй?» Да еще пересохшие губы, время от времени, как бы сами собой, нашептывали: «Ты держись, малыш, терпи, скоро придем, вот увидишь, все будет отлично. Где эта чертова машина, куда она подевалась?»
Он припомнил, как мыкался со своим лопоухим щенком по многочисленным районным клубам Москвы, как всюду от него отпихивались и никак не хотели ни принять в члены клуба, ни дать направление на дрессировочную площадку, потому что не то родословная на собаку оказалась чуть ли не липовой, самодельной, не то хозяева родителей щенка были не в чести у ответственных за племенное разведение — трудно было докопаться до причины, почему не брали, прямо-таки заворачивали от дверей клубов, куда он столь терпеливо и безответно стучался. Наконец кто-то из сердобольных и сведущих надоумил: сходи-ка ты, раз такой упорный, в общество любителей собак «Дружок», а еще лучше — наведайся в КЮС, есть, мол, такой Клуб юных собаководов, где меньше всего обращают внимание на бумажки. Там он и был встречен как желанный, обогрет и обласкан… Ах, какие для него наступили времена! Сколько довелось изведать приятных, просто-таки праздничных минут!..
Отвлекшись, Пушкарев не заметил, как под ноги подвернулся упругий хлыст, сапоги заплелись в нем, и Пушкарев едва не рухнул со своей ношей наземь.
— Ч-черт!.. — выругался он. — Только коряг и не хватало. Вроде и место открытое…
Безотрадная серость вокруг споро менялась на черноту, вязкую и затягивающую, словно болото. Ниоткуда не доносилось ни шороха, и в этом пугающем безмолвии странным показался Пушкареву собственный голос — совсем глухим и одиноким. Неясной тревогой сдавливало грудь, и Пушкарев поневоле перешел на шепот:
— Мы должны успеть, Арчи! Ты только потерпи, я малость отдохну. Руки уже не держат, ну прямо отваливаются.
Он бережно опустил собаку на лиственную подстилку, заботясь, чтобы лежать ей было хорошо и покойно. Сам присел тут же, неподалеку от жердины, замечая, как с каждой секундой на затылке все туже и туже стягивало кожу, как тело охватывала дрожь. Вязко стучало в висках, кровь билась толчками, и не было даже желания смахнуть со лба безостановочно натекавший пот. Свесив с колен налитые тяжестью руки, он легонько поглаживал пса, теребил его теплый безвольный круп, понимая, что, пока собака жива, он не один в этом немом пространстве, от которого веяло неприязнью и холодом. Намеренно не оглядываясь по сторонам, Пушкарев сосредоточенно устремлял взгляд туда, где еще слабо угадывался последний колеблющийся свет уходящего дня и где всю их группу должна была ждать в неопределимом отсюда месте машина.
От неподвижности и покоя на смену тревоге вскоре пришло расслабление, понемногу унялась дрожь. Пушкарев даже не заметил, когда отхлынула от затылка недавняя боль, сковывавшая волю и парализующая мозг. Вновь, успокаивая видениями, в глухих сумерках грезилось ему о давнем, как ни странно, приносящем сейчас отдохновение и прохладу. Отчего-то вспоминалась первая, еще до болезни Арчи, выводка молодняка на весенней клубной выставке, куда Пушкарева направил КЮС. Собак возраста Арчи в ринге оказалось немного, все они были по-своему хороши. По Арчи все равно был лучше всех, явно стройнее и развитей остальных, только судьи почему-то этого не заметили. Разбирая подробно все стати молодой овчарки, они сыпали наперебой определениями, словно соревновались друг с другом в учености. Один говорил: «Живот, однако, у собаки впалый. М-да…» Другой, чернявый и юркий, особенно неприятный Пушкареву, верещал, проглатывая слоги: «Что ни говорите, а у песика постав глаз широковат». Третий же, хмурясь и отводя глаза, и вовсе изрекал что-то загадочное, непонятное: «У собаки явная дисплозия, о чем тут спорить, коллеги? И пясть распущенная, куда это годится?» Не особо разбираясь в терминах, Пушкарев тем не менее запоминал слова.