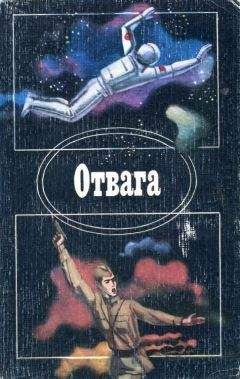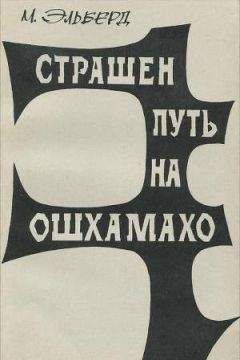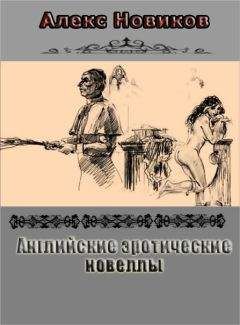Нас кормили хорошим завтраком, потом — обедом (привезли все горячее, в термосах) и во второй половине дня, когда стало опять темнеть, дали команду: «Отбой — поход!»
Расчеты начали приводить установки в походное положение. Ребята мои работали и радостно и яростно. Что ж, все было вполне понятно и объяснимо: по предварительным итогам, как сказал нам капитан Лялько, наша стартовая батарея получила отличную оценку и, говоря по секрету, кое-кому из наиболее отличившихся на этих учениях солдат и сержантов светил краткосрочный отпуск с поездкой домой — на десять дней, не считая дороги.
Виталий Броварич меня и удивлял и радовал. Ведь я же практически ничего для него не сделал. Может быть, дело было в том, что я разговаривал с ним не как с потенциальным нарушителем дисциплины и порядка, никогда не напоминал о том, что случилось, а когда он сам рассказал мне об этом — постарался понять его? Я заметил: человек становится совершенно другим, когда ты стараешься понять его.
Все эти месяцы, недели, дни и особенно на боевом дежурстве, и вот сейчас, на выезде, немногословный Броварич работал действительно на совесть.
Я наблюдал, как мой взвод заканчивал положенные перед маршем работы, когда ко мне подошел лейтенант-инженер Зазимко.
— Отбойчик? — спросил он, видно, только для того, чтобы как-то начать разговор.
— Закругляемся, — ответил я. — Отвоевались.
— Закругляемся, это точно. — Он помолчал. — Ты знаешь, Анечка моя… ну… я думал, что с ней плохо будет. Раньше, когда нас поднимали, вроде не так было. А на этот раз… Как будто настоящая война. Мне даже самому страшно стало… А она заплакала.
В лесу было сумеречно-сине, величаво и печально качались кедры, белесое снежное небо висело низко, и в этом неясном свете бледная улыбка Юрочки была трогательна и счастлива. Наверняка он не видел сейчас ни меня, ни леса, ни тягачей, которые вытягивались в колонну, — он был далеко отсюда, там, на нашей основной точке, в городке, и видел только свою милую Анечку, которая осталась дома, в тревоге, и теперь ждет его, ждет, ждет не дождется. А кто ждет меня? Никто. Может быть, так спокойней?
— Лейтенант Игнатьев! — послышалось сзади, когда мы почти подошли по скрипучему снегу к машине станции наведения.
Нас догонял капитан Лялько.
— Товарищ лейтенант Игнатьев! — как-то уж очень официально повторил он. — Я ищу вас по всей позиции…
— Слушаю, товарищ капитан…
— Срочно на КП, к генералу…
— К какому генералу? — как-то слишком по-граждански спросил я.
— К проверяющему… Быстренько, быстренько!
Генерал-проверяющий, как я понял, в машине КП не усидел. Он шел к нашей стартовой позиции мне навстречу, и я узнал его не сразу. Отец?
— Здравствуй, Сашок! Ну как?
— Нормально!
— Ну… молодец!
— А я… Ты знаешь, я никак не ожидал, что ты можешь сюда приехать.
— Мое направление. Сам выбирал.
Мы не виделись… — да, чуть меньше, чем полгода.
— Как наше хозяйство? Даю слово сохранить наш разговор в тайне, и никто не будет знать неофициального мнения представителя выше-выше-вышестоящего штаба.
— А я от тебя, Сашок, такого слова и не требую. Работал дивизион на самом высоком уровне. А всякие привходящие мелочи… Одним словом, я доволен.
— Значит, ночную проверку мы выдержали?
— Можно считать так. Только ведь для тебя лично это всего-навсего первая проверка… Проверять тебя будут всю жизнь.
— Я понимаю.
Я действительно понимал, что имел в виду отец: я сам выбрал жизнь, требующую постоянной готовности к самой строгой и самой страшной проверке — проверке боем.
— А ты, оказывается, тут новаторствуешь, — сказал отец. — Меня подполковник Мельников проинформировал. Даже в деталях. И знаешь, что я тебе скажу? Главное не в том, что полезно или бесполезно то, что ты предлагаешь. Это потом оценит жизнь, последующее развитие событий… Дело в том, что ты неравнодушен к службе — вот что я считаю главным. Неравнодушен! А ведь ничего нет хуже равнодушного, механического отношения к порученному делу. Равнодушие может убить все. В любой отрасли человеческой деятельности, а в армии особенно… И я очень рад, что ты неравнодушен к службе. Очень рад. Постарайся быть таким всю жизнь. Говорю тебе, кажется, прописные истины, да еще казенным языком… Но ты поймешь. И жить тебе будет легче — в любом коллективе, в любых условиях.
Мы поговорили еще минут десять: зима в наших краях — это все-таки зима, и на морозе особенно не разгуляешься. А пристроиться где-то в тепле просто не было возможности: дивизион свертывался. Отец спросил, кто из старых товарищей по училищу мне пишет. Я ответил, что все как-то растерялись. Пока у меня есть только адрес Ивакина.
— Что он пишет?
— Ничего не пишет. Наверно, хорошо устроился, зачем же писать? А потом мы же… не были большими друзьями.
— А девушка? — спросил отец. — Ну та, что приходила ко мне за твоим адресом.
— Это знакомая Ивакина. Она сообщила ему мой адрес, а мне прислала его…
Отец пристально посмотрел на меня, и мне стало как-то неловко.
— А как у тебя с классностью? — спросил он.
— Готовлюсь. Хочу рискнуть сразу на второй.
— Отпуск когда планируешь?
— Пока еще не думал.
— Приезжай после зачетных занятий и стрельб. Ориентировочно май — июнь.
— Буду стараться. Только ты тут, пожалуйста, ни на кого в этом смысле не дави.
— У меня и мыслей таких не было.
Мы подошли к колонне дивизиона, которая вытягивалась в темноте на просеке. Снег повалил гуще, и от этого, казалось, кругом стало светлей.
— Ты поедешь с нами? — спросил я отца.
Он вздохнул.
— Нет. — Потом посмотрел на часы, долго вглядываясь в светящиеся стрелки: — Мне уже надо ехать. На другую точку. График, как видишь, плотный. Меня в полку будет ждать вертолет.
Мы вернулись «домой», на основную позицию, утром, в начале восьмого. Но нас встречал весь городок: офицерские жены и дети, команда, оставленная охранять наше хозяйство (те, разумеется, кто в этот утренний час не нес службы), даже «бабушка Батурина», закутанная в белый пуховый платок.
Итак, вернулись мы утром, а на свои квартиры — умыться, побриться, переодеться и малость отдохнуть перед обедом — попали только около двух: после марша всегда много дел, и если разобраться, то мы освободились еще рано.
Когда я пришел домой, Нагорный, не сняв сапог, только подстелив газету, уже лежал на койке под шинелью.
— Ты? — спросил он, приоткрыв глаза. — Жив?
— Пока вроде жив, Сергей не приходил?