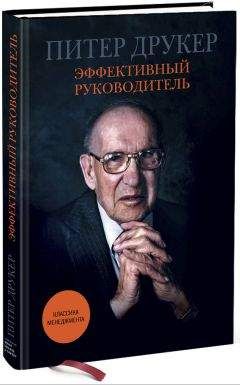— На коленки, Федя, становись! На коленки. Святые Дары выносят!..
* * *
В Москве нечего делать. В Москве ни богатства не наживешь, ни славы не заслужишь… И правда надо ехать на Каму!
Эта мысль крепко засела в Фединой голове. Страшна стала Москва.
В тот вечер сидели в горнице Исаков и Селезнеев, ковыряли шильями в троечной сбруе, нанизывая на нее железные, оловом крытые бляшки Федя читал.
Над большими, тушью писанными листами горела в ставце лучина.
В густом сумраке, где чадно пахло сосновым дымом, звонко раздавались страшные и радостные слова. Вздыхали Исаков с Селезнеевым.
— Воскресл еси от гроба, всесильне Спасе, и ад видев, чудо ужасеся и мертвии восташа.
— Да, так было, — прошептал Селезнеев, старательно разжигая новую лучину. — Восстанут мертвые, и мы, когда умрем, будем ждать Спаса Нашего, Господа Иисуса Христа!
— Тварь же видящи срадуется Тебе, и Адам свеселится…
— Всякая тварь, Федя, от Господа. Всякая тварь Господу радуется. И конь и пес Господом даны на радость человеку. Жалей, Федя, всякую тварь земную…
Пока меняли лучину, в горнице было тихо. С крыши упал пласт снега, и слышно было, как он, шурша, рассыпался. Таять стало и по ночам. Близилась весна.
Ярко вспыхнула желтым пламенем свежая лучина, Федя, набравшись голоса, с силою прочел:
— И мир, Спасе мой, воспевает Тя присно…
По всей Москве царила торжественная предвесенняя ночная тишина. Днем мела метель. Намела сугробы. Как в мягком пуху, были московские улицы. Не слышно было шагов пешехода. Да и кто пойдет в ночную пору? Добрые люди давно сидят по домам.
— Да веселятся небесная, да радуются земная, яко сотвори державу мышцею Своею Господь!..
— Да радуются земная… Подлинно так, — не разжимая рта прошепелявил Селезнеев. Он закусил дратву зубами и шилом пропускал другой ее конец в дырочку железной бляшки. — Радости на земле-то сколько от Господа положено. И кто мешает? — Человек! Он всему злому заводчик!
И точно подтверждение его словам, в мертвой, густой тишине, разрывая ее, раздались дикие пьяные крики:
— Ай!.. Ай!.. Лови… держи!.. Улю-лю-лю!.. А та… та… та!..
Исаков проворно задул лучину.
— Опричники царские за кем-то погнали, — прошептал он.
— Потеха царская, — проговорил Селезнеев, — попритчилось что-то царю батюшке! Послал крамолу искать.
— Подлый ныне, Федя, народ стал в Москве, — сказал Исаков. — Все на кого-то доносит. Нечего тебе тут делать… И правда, поезжай на Каму, к купцам Строгоновым. У них вольнее тебе будет дышать!
Лучину не засвечивали. Селезнеева оставили спать у Исакова. Ложились в темноте. В тихой Москве все мерещились пьяные крики, вопли опричников и резвый скок их быстрых коней…
Исаков побывал в Московской палате братьев Строгановых и узнал, что большой караван товаров пойдет только летом, когда вскроются реки, и пойдет медленно. Он будет заходить в Нижний Новгород и в Казань и везде будет закупать товары для строгановских городков. Но до вскрытия рек, санями до Волги поедет доверенный человек Карл Залит. Он едет один и, конечно, может доставить Федю.
В строгановской палате Чашников знали и там приняли участие в судьбе Феди. Старший приказчик сказал Исакову:
— Хорошее дело надумали, Степан Филиппович, Чашниковского сынка к Строгановым послать. У них он и ратному делу научится, и свое меховое не забудет. А там, как ему полюбится, так и станет. То ли сотником будет в строгановских дружинах, то ли скупать будет меха, разбирать их и в Москву доставлять. У наших купцов дело огромадное. Молодому человеку там работа найдется всегда. А сами Строгановы не то что купцы, а почище и познатнее других бояр и князей будут.
Видал Исаков и Залита. Крепкий, широкоплечий, рыжий, с огненной, курчавой, короткой, больше по щекам, бородою, со шрамом на лбу, точно клейменый каторжник, Залит не понравился Исакову. Он хмуро выслушал приказчика и сказал:
— Доставить парня можно… Доставлю.
— У него, у Федора-то, — ласково сказал Исаков, — собака есть… Я знаю, ему бы так хотелось и собаку взять. Не стеснит ведь собачка-то вас в дороге.
— Это… нэт… это невозмошна… — решительно сказал Залит. — Никакой собаки я брать не желаю. Мальчонок дело другое. Мальчонка доставлю. А куда там с псом поганым возиться. У Строгановых и своих собак целая стая! Санки у меня малыя, еле вдвоем сесть.
— Да зачем собак ехать. Она и так добежит.
— Ну, а потом, — резко сказал латыш. — Я челноком пойду по рекам. До самого городка их Канкора, в устье Чусовой… Там и совсем нет места собаке. И не люблю я их, псов поганых.
Приказчик поддержал Залита.
— И точно, — сказал он. — На что в дороге собака?
— Да не возьму я собаки, — крикнул латыш. — Ни за что не возьму. На дьявола нужна она, твоя собака!
— Любит ее очень мальчик-то наш!
— Любит — разлюбит… Собака!.. Эка невидаль… Зарежу я собаку и все!..
Исаков больше не настаивал. Он решил в уме: ну, поплачет Федя, расставаясь с Восяем, да ведь Восяю не худо будет и у него. Наташа как полюбила Восяя! Останется он ей на утеху. Хорошо ему будет. А летом — видно будет. Можно будет Восяя отправить с караваном товаров. Авось там люди будут поласковее и подобрее, а то этот — вон какой сердитый, — чуть что не по нем — сейчас, как ерш иглами покроется. Такой колючий!..
Горько было Феде расставаться с Восяем, но горечь была смягчена тем, что Восяя он оставлял на попечение Наташи, а Наташа…
Про то уже вся дворня знала, про то весело чирикали воробьи по исаковскому двору: Наташа будет женою Федору Гавриловичу Чашнику!
Не изменил своему слову Исаков. Ну и Селезнеев, крепко полюбивший Федора, помог ему в этом деле.
Когда зашла об этом речь, был семейный совет. На том совете были Марья Тимофеевна, Исаков и Селезнеев.
Исаков повел речь о том, что, когда жив был Чашник, а Федя и Наташа были совсем малыми детьми, порушили они между собою, чтобы им породниться.
— Ну, а теперь, — поглаживая седеющую бороду, говорил Исаков, — теперь, когда, значит, Федор остался без ничего… Вот и хотел я… Значит…
Нелегко шли у него слова. Совестно было досказать свою мысль до конца.
— Наташа у нас, слава Те, Господи! без обмана какого!.. По чистой по совести!.. Не увечна… Очами, или там рукою, али ногою… Все на своем месте… Собою красива… Не глуха… Не нема… Речью истолнена. А уже рукодельница!..
— И нравом послушна, — вставила Марья Тимофеевна, поджимая значительно губы.
— Не бесприданница… Мы ей сундук какой наложили, — продолжал Исаков. — Всего есть. И холстов и белья, и одежи, и шубы какие… Монисто, камни самоцветные… Колец сколько… Так я и думаю… Что ж… Говорили мы с Чашником — это точно… Я не отказываюсь. Говорили… Так ведь, когда говорили-то — Наташе тогда пятое лето шло. И Федя того и не знает… Вот я и думаю… Не такого жениха, может быть, Наташе надо… Ей можно какого боярского сына просватать… Князя какого… а… Марья Тимофеевна?