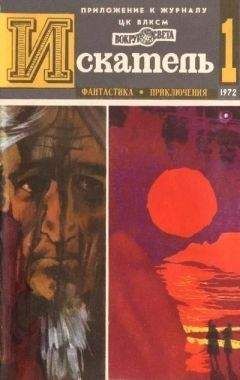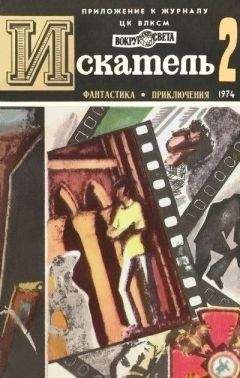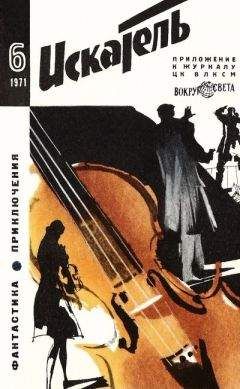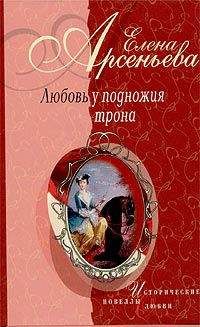— Слушайте, Дзасохов, а вы чего живете под чужой фамилией?
Он дернулся, заерзал на стуле, будто я ударил его ребром ладони по шее. Помолчал, усмехнулся, как-то безразлично сказал:
— Мне так больше нравится.
— Что значит — нравится? Это же не ботинки — не нравятся старые, выкинул и купил новые. Менять самовольно фамилию не разрешается.
— А почему?
— Потому! Если бы вы взяли себе фамилию Рембрандт, я бы вам вопросов не задавал. А если вы самовольно берете себе фамилию Кисляев — значит, это не от хорошей жизни.
— А я не самовольно. Я официально изменил фамилию через органы загса.
— На каком основании? — удивился я.
— В связи со вступлением в брак. Женился я. И взял фамилию жены. Имею право? А?
Я покачал головой и сказал:
— Вы уж извините меня за бестактные вопросы, но…
Он махнул рукой:
— Валяйте дальше. У вас работа такая. Когда вы приглашаете сюда, в этом уже содержится элемент бестактности…
— Почему же так категорически?
— Потому что вы хотите выяснить, не имею ли я отношения к краже скрипки у Полякова. И в самой постановке вопроса имеется оскорбительный для каждого честного человека момент — назовем это бестактностью.
Я вскинул на него взгляд, и он поймал его, как опытный волейболист ставит мгновенный блок над сеткой.
— Да-да, — подтвердил он, — Вы хотели сказать, что вчерашний арестант не может пользоваться моральными привилегиями честного человека?
Я ничего не ответил, а он закончил:
— Вот поэтому я и взял фамилию жены. Человек с некрасивой фамилией Кисляев имеет моральных прав много больше, чем Дзасохов. Перед теми, конечно, кто не знает, что это одно и то же лицо. Что вас еще интересует?
Меня очень интересовало, почему он отдал сейчас долг, который не мог возвратить много лет, но спросить об этом как-то не поворачивался язык.
— Вы давно знаете Иконникова и Полякова?
— Очень давно. Еще до войны. Я работал маркером бильярдной в Парке культуры, и они часто заезжали поиграть со мной.
Я обратил внимание, что он сказал «работал». Хотя, наверное, это работа и нелегкая, коли люди приезжали специально поиграть с ним.
— А что, они увлекались бильярдом?
— Лев Осипович прекрасно играет. У него восхитительный глазомер, нервная, очень чуткая рука. Но ему всегда не хватало духа, ну, азарта, что ли. Нет в нем настоящей игровой сердитости. Иконников в турнирных партиях всегда его обыгрывал. Хотя сам рисунок игры Полякова и был красивее…
— Вы поддерживали с ним знакомство все эти годы?
— Льва Осиповича я не видел уже множество лет. А с Иконниковым мы до последнего времени общались.
— А точнее?
— Точнее некуда. В последний раз я его видел дня за три до смерти.
— Вы говорили с ним о краже у Полякова?
— Нет, не говорили.
— Странно, — заметил я. — Тема-то куда как волнующая. А Иконников был всем этим весьма озабочен.
— Я думаю, — усмехнулся Дзасохов, — Под таким мечом находиться…
— А что — под мечом? — снаивничал я, — Иконников тут при чем?
Дзасохов пожал плечами, неуверенно сказал:
— Не знаю, правда или нет, но против него ведь вроде было выдвинуто обвинение…
— Откуда вы это взяли? — быстро спросил я.
— Слышал такое. Мир тесен…
— А все-таки? Кто это вам сказал?
— Сашка Содомский. Он, конечно, трепач первостатейный, но такое из пальца не высосешь. Тем более что при мне у них произошел скандал.
— Что он за человек, этот Содомский?
— Так, — сделал неопределенный жест Дзасохов. — Живет хлеб жует. Человек как человек. Распространяет театральные билеты.
— Я заметил, что вы о нем говорили без малейшего почтения, — сказал я, и Дзасохов улыбнулся.
— О нем все говорят без почтения. Ну, а уж мне-то сам бог велел…
— Почему именно вам?
— Да ведь мне теперь помереть придется с элегантной фамилией Кисляев — и не без его участия. Это он меня, дурака, «жить научил».
— То есть?
— Несколько лет назад остался я без работы, и денег, естественно, ни хрена. Пошел я к Сашке перехватить четвертачок. Денег он мне, правда, не дал, но говорит: «С твоими-то руками побираться — глупее не придумаешь…» Научил, как делать фальшивые царские червонцы и с покупателем свел…
Дзасохов замолчал. У него были очень красивые руки — хоть и непропорционально крупные на таком небольшом туловище. Сильные, с крепкими длинными пальцами, четким рисунком мышц и жил. И в руках этих совсем не было суетливости, они спокойно, твердо лежали на столе, и по ним совсем не было заметно, что Дзасохов волнуется. Иногда только он проводил ладонью по своей немыслимой шевелюре, и снова руки спокойно лежали на столе, с гибкими и мощными кистями, которые могли делать королевские партии в бильярд, рисовать куриц со скорбными глазами и формовки для «царских золотых» монет.
— И что дальше было? — спросил я, хотя знал почти все, что произошло дальше: утром я успел прочитать справку по делу. Но никаких упоминаний о Содомском там не было.
— Ничего, — сказал Дзасохов, — Три года общего режима.
— А почему вы на следствии не рассказали о Содомском? — спросил я.
— Зачем? Я ведь не малый ребенок, которого охмурил злой демон Содомский. Когда соглашался, знал, на что шел. А получилось — собрался за шерстью, а вернулся стриженый…
— Но ведь Содомский, как я понимаю, был организатором этого преступления. А отдувались вы один.
— А может, не был — он и за комиссионные мог участвовать. Кроме того, вы, наверное, не поняли меня — я ведь вовсе не слезами восторга и раскаяния принял приговор суда.
— Ну восторгаться там и нечем было. А раскаяние вам бы не помешало — может быть, наказание меньше назначили.
— Мне и так несправедливо тяжелое наказание дали. От моего так называемого преступления никто не пострадал.
Я засмеялся:
— Это просто вам не повезло, что сразу поймали.
Дзасохов махнул рукой:
— Я не об этом. Честный человек не станет скупать золотые монеты, будь они хоть трижды настоящие, а не фальшивые. Даже если бы мое преступление удалось — тоже ничего страшного: подумаешь, вор у вора дубинку украл!
Ухмыляясь, я развел руками:
— Мой начальник говорит, что каждый должен заниматься своим делом. Вот наказывать жуликов — это наша задача. Вы тут ни при чем — занимались бы своими делами. Не можем мы допустить, чтобы преступники у нас между собой разбирались по своим понятиям о справедливости.
— А я и не говорю ничего, — пожал плечами Дзасохов.
— Но одной вещи я все-таки не понимаю, — сказал я.