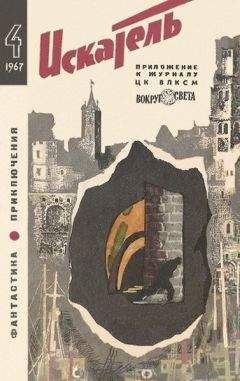— А что еще ты собираешься покупать?
— Наверно, аквариум. Уже присмотрел. Литров на сто. Скаляров разведу — до чего красивая рыбешка!
— Отложи аквариум. Мне нужны деньги — срочно лететь в Ленинград..
— Личные дела? — понимающе спросил Ленчик. — Ты бы хоть фотокарточку показал. Красивая?
— Очень.
Ему удалось наскрести полсотни. Через минуту я выдержал разговор с Кэпом и едва успел на автобус. В аэропорту у кассы стояла очередь, а над очередью красовалось объявление о том, что билетов нет. Но едва я стал протискиваться, как меня тронул за плечо парень в кожаной куртке. На лбу его отпечаталась полоска от мотоциклетного шлема.
— От Шиковца, — сказал он. — Получи билет у диспетчера. Забронируй обратный рейс.
В самолете у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить над противоречивым характером строгого капитана Шиковца.
Такси пробежало город, вырвалось на Васильевский остров и застряло в геометрически правильной паутине улиц. Это было царство прямого угла.
Я поднялся на пятый этаж серого, безликого дома.
Дверь открыла мать Юрского. Для женщины сорока лет, к тому же переживающей несчастье, она слишком смело обращалась с косметикой. Я сказал, что знаком с ее сыном и пришел узнать, почему он не появляется.
Она провела меня в комнату, поправила прическу и неожиданно всплеснула руками:
— Не углядели мы Славика, не углядели!
Жест показался театральным. Похоже было, она не знает, как выражать горе, и поэтому прибегает к сильным приемам. Быть может, эта женщина еще не поняла, что произошло.
— Не углядели мы! — повторила она.
Многозначительное местоимение перекладывало часть ответственности и на меня. Что ж… В комнате чувствовалось отсутствие мужчины, хозяина. Вдовья доля, наследство войны.
— Убежал Славочка, убежал.
— Куда убежал?
— Может, во флот. Он давно с приятелем договаривался, с соседом Алешкой. Милиция уже расспрашивала. Он у моего двоюродного брата какую-то иконку взял. Господи, это ж от баловства!
— А больше ничего не взял?
Я переборщил с расспросами. Она спросила сухо, изменив тон:
— Где же вы с ним познакомились?
Вытащив из кармана цепочку, я покрутил ее вокруг пальца. Эта цепочка, увешанная всякими заграничными брелоками, с автомобильным ключиком была противовесом профессиональному любопытству. Брелочки позванивали о легкомыслии, ключик свидетельствовал о прочном материальном положении. И то и другое не вязалось с представлением о сотруднике угрозыска.
— Мы любим автомобили.
— Понимаю, — сказала она с облегчением. — Молодежь сейчас очень интересуется машинами.
«Скорее всего продавщица, — думал я, посматривая на хозяйку. — У тех, кто стоит за прилавком, особая сутулость. Выпрямляясь, они откидывают корпус назад, чтобы сбросить тяжесть с поясницы…»
В доме много дорогих вещей, аляповатых и безвкусных.
— Вы кажется, в магазине работаете?
— В аэропорту, в буфете.
— Хорошая работа!
— Да где уж! По суткам дома не бываю. Ну, правда, о Славике забочусь, вещички у него что надо.
«Война еще ходит по домам, — подумал я. — Может быть, она не стала бы пустой бабенкой, будь рядом с ней крепкий и сильный мужчина».
— Я Славочке все условия стараюсь создать. Вот, пожалуйста. Уютный уголок, правда?
Я окинул взглядом «уютный уголок». Рисунок брига на стенке, секретер. Две полки с книгами. Жюль Верн, Мопассан, двухтомный Джозеф Конрад, затрепанный. Множество пестрых журналов, «Пари-матч», «Стэг»… Наверно, мамаша приносила из аэропорта. Что ж, читай, коли голова на месте. Но ведь он небось, слюнявя пальцы, рассматривал лишь рекламу и полуголых девчонок. «Изящная жизнь»!
К секретеру был приколот самодельный плакатик, изображающий характерный силуэт Петровской кунсткамеры. Надпись:
«Мир — кунсткамера, люди — экспонаты.
Ст. Юрский».
Позер…
— Вы хорошо зарабатываете?
Она пожала плечами и усмехнулась. Автомобильный ключик и брелочки чем-то незримым роднили нас.
— У буфетчицы трудная работа… Ну, иногда помогал дядя Славика. Профессор!
В словах промелькнул оттенок презрения и застарелой родственной вражды.
— Уж и дядя! — сказал я в тон.
— Вы знаете? Действительно… Когда Славик окончил школу, я попросила брата, чтобы устроил его в институт. Знаете, он отказал. Родной двоюродный брат! Конечно, я женщина — простая…
Вот здесь я почувствовал неожиданную гордость, но там, где гордость, уже нет простоты.
— Получает большущие деньги, а живет… Откровенно сказать, хуже меня. Все тратит на какие-то экспедиции…
Мне захотелось прервать поток глупых слов. Не в этом ли причина разлада, происходившего в душе парня? Бессребреник был представлен в его глазах чудаком и скопидомом. И тут же рядом — торжествующее мещанское благополучие…
— Как вы думаете, Славик скоро вернется? — спросила она так, будто ее сынок, решив пошалить, запрятался в багажнике моей машины.
В том же доме я отыскал приятеля Юрского, восемнадцатилетнего Алешку, застенчивого веснушчатого парня.
— Мы со Славкой редко встречались последнее время, — сказал он.
— Может, он уехал, чтобы устроиться матросом? Вы ведь с ним хотели во флот?
— Если бы матросом, то пошел бы со мной работать в порт. Я на буксир устроился пока. А в военкомате обещали, что возьмут в военно-морские…
— А он?
— «Ерунда, — говорит, — Не хочу, мол, размениваться по мелочам. Вы еще обо мне, — говорит, — услышите!»
Дядя жил недалеко от Аничкова моста. Не доезжая нескольких остановок, я вышел из троллейбуса. В запасе оставалось еще по крайней мере полчаса, а Ленинград создан для неспешной ходьбы. Как поэзия, он не терпит суеты.
Легкие контуры каменных громад вставали, как мираж, как облик задумчивой и благостной земли. Я пил ленинградский воздух и завидовал людям, для которых эти улицы были домом.
«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы особенно опасна».
Надпись, оставшаяся с давних времен, ворвалась в тихий мир, как снаряд, полет которого потребовал двадцати лет.
Но в барочных завитушках дворцов гнездились и ворковали голуби. Колоннады Казанского собора охватывали толпу, словно две руки. Зеленые, округлые кроны лип были легки и, казалось, вот-вот поднимутся к небу, как стайка воздушных шариков…
Эти улицы рождали ощущение, что весь мир полон гармонии и покоя.
Близ Гостиного двора была толчея, здесь царило ощущение вечного праздника.