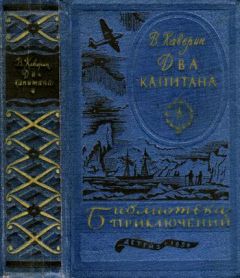Еще мокрый, растирая мохнатым полотенцем грудь, он подошел к телефону и снял трубку, хотя я сказала, что звонить В. еще рано. Я что-то делала: кажется, разжигала спиртовку, ставила кофе. Саня назвал В. по имени-отчеству. Потом каким-то странным голосом он спросил: «Что?» Я обернулась и увидела, что полотенце соскользнуло с плеча, упало и он не стал поднимать его, а стоял выпрямившись и кровь отливала от его лица.
— Хорошо, я дам молнию, — сказал он и повесил трубку.
— Что случилось?
— Да нет, какая-то чушь, — поднимая полотенце, медленно сказал Саня. — В. ночью получил телеграмму, что поисковая партия отменена. Мне приказано немедленно выехать в Москву, в Управление ГВФ, за новым назначением.
Глава шестнадцатая
«Я ВИЖУ ТЕБЯ С МАЛЫШОМ НА РУКАХ…»
Саня как-то говорил, что всю жизнь всегда бывало так: все хорошо — и вдруг крутой поворот, и начинаются «бочки» и «иммельманы». Но на этот раз можно было сказать, что машина пошла в штопор.
Разумеется, теперь, когда новые, в тысячу раз более сильные чувства, заслонили все, чем мы жили, что радовало и огорчало нас до войны, кажется странным то необычайное впечатление, которое произвела на Саню эта неудача. Это было впечатление, которое отчасти даже изменило его взгляды на жизнь.
— Кончено, Катя, — с бешенством сказал он, вернувшись от В. — Север, экспедиция, «Святая Мария». Я больше не хочу слушать об этом. Все это детские сказки, о которых давно пора забыть.
И я дала ему слово, что мы вместе забудем об этих «детских сказках», хотя была уверена в том, что он не забудет о них никогда.
У меня была еще маленькая надежда, что Сане удастся в Москве добиться отмены приказа. Но телеграмма, которую я получила от него уже не из Москвы, а откуда-то по дороге в Саратов, убедила меня в обратном. Уже самое назначение, которое он получил, как бы подчеркнуло полный провал экспедиции. Он был переброшен в сельскохозяйственную авиацию — так называемую авиацию спецприменения, и должен был теперь не больше не меньше, как сеять пшеницу и опылять водоемы. «Отлично! Я буду тем, за кого меня принимают, — писал он в первом письме из какого-то колхоза, в котором сидел уже вторую неделю, «согласовывая и увязывая» вопросы своей работы с местными властями. — К черту иллюзии — ведь, право же, это были иллюзии! Но Ч. был все-таки прав — если быть, так быть лучшим. Не думай, что я сдался. Все еще впереди».
«Будем благодарны этой старой истории, — писал он в другом письме, — хотя бы за то, что она помогла нам найти и полюбить друг друга. Но я уверен, что очень скоро эти старые личные счеты окажутся важными не только для нас».
В критическом духе он писал мне о том, что постепенно привыкает к полезной роли, «сеятеля злаков» и «неукротимого борца с саранчой». Но, очевидно, он увлекся этой работой, потому что вскоре я получила от него совсем другое письмо.
«Дорогая старушка, — писал он, — представь себе, есть на свете так называемая парижская зелень, которую нужно распылять над озерами по одиннадцати килограммов на километр. Для этого, представь себе, нужно иметь класс, хотя бы потому, что эти озера маленькие, в лесу и похожи друг на друга, как братья. Подходишь к такому озерку на полном ходу, сразу резко пикируешь и — круто вверх. Интересно, да? Как ни странно, но совсем другие, не сельскохозяйственные мысли одолевают меня, когда я пикирую над этими озерками или на бреющем полете сею пшеницу. Сто двадцать пять посадок в день — это пригодится, если парижскую зелень на моем самолете придется заменить другим, более основательным грузом. Все к лучшему, я ни о чем не жалею. Обнимаю тебя. Я вижу тебя с малышом на руках, ты ходишь и поешь, а косы плохо подколоты и расплелись, и ты подходишь ко мне и садишься на корточки, чтобы я подколол косы…»
Недаром я представлялась Сане с маленьким Петей на руках — я отдавала ему все свободное время. Он менялся с каждым днем, и так интересно было наблюдать, как он постепенно начинает различать меня, и Розалию Наумовну, и няню; как в бессмысленных, еще младенческих глазах вдруг мелькают удивление, внимание. Это может показаться невероятным, но ему еще не было месяца, а он уже улыбался. Он смотрел на лампочку и плакал, когда ее гасили. Первое время он пугался своих ручек, а потом подолгу смотрел на них и не пугался. Другие ребята в его возрасте бывают сморщенные, кислые, а он был веселый — точно рад, что явился на свет. Мне казалось, что он похож на Саню больше, чем в клинике, когда я видела его в первый раз. Он родился с черными волосиками, но только на макушке, а теперь уже вся головка заросла, и он стал очень хорошенький, аккуратный…
Все вышло не так, как думалось, мечталось! Я приехала в Ленинград на две — три недели, чтобы встретиться с Саней, чтобы остаться с ним, где бы он ни был, и вот он снова был далеко от меня. Нежданно-негаданно у меня оказалась семья — маленький Петя и большой и няня, о которых нужно было заботиться и думать, причем никто не сомневался, что заботиться и думать нужно было именно мне.
Почему-то я продолжала заниматься геологией Севера, хотя дала Сане слово навсегда выкинуть Север из головы. С деньгами было плохо, и я взяла скучную работу в Геологическом институте.
Вероятно, прежде я бы терзалась, ругала себя и вообще думала о себе в тысячу раз больше, чем нужно. Но странное спокойствие вдруг овладело мной. Точно вместе с «детскими сказками» я проводила свое самолюбие, гордость, свою обиду на то, что все произошло не так, как я страстно желала. «Что же делать, милый мой! — ответила я Сане, когда в одном письме он сетовал на себя за то, что вытащил меня в Ленинград и бросил, да еще с целым семейством. — Как говорит старый судья, в жизни не закажешь».
Я писала ему часто, длинные письма о «научной» няне, о том, как быстро меняется маленький Петя, о том, как большой вдруг с жадностью накинулся на работу и проект памятника Пушкину выходит замечательно, превосходно…
Но я не писала ни слова о том, как однажды, покупая что-то в «Гастрономе», на проспекте 25 Октября, я увидела за окном знакомую фигуру в сером пальто и в мягкой шляпе, той самой, которая была куплена ради меня и которая неловко стояла на квадратной большой голове…
Темнело, я могла ошибиться. Но нет, это был Ромашов. Сдержанный, бледный, немного наклонясь вперед, он медленно прошел мимо витрины и затерялся в толпе.
Не помню, где я читала стихотворение, в котором годы сравниваются с фонариками, висящими «на тонкой нити времени, протянутой в уме».