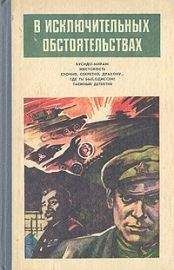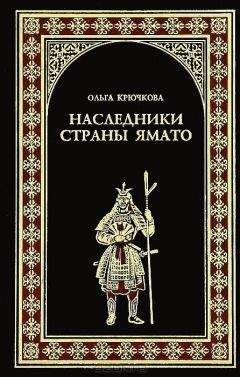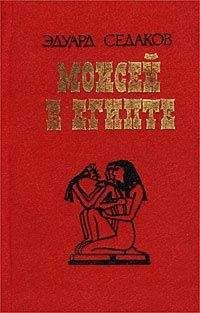– Алло, Пьер!
– Огюст, – поправляю я.
– Ах да, конечно же… Огюст… Давненько ты не заходил. Дела?
– Пишу поэму, – сообщаю я и треплю Жужу за подбородок. – «Житан» найдется?
– Для тебя всегда!
Эрлих корректно берет меня за локоть.
– Кто эта милашка?
Жужу словно и не слышит. Она привыкла, что обнаженные плечики и маленькая, обтянутая блузкой грудь вызывают повышенный интерес, и научилась отличать настоящих клиентов от ненастоящих. Эрлих – ненастоящий. Сунув мне сигарету, Жужу наконец снисходит и до штурмбаннфюрера. Булавка в галстуке и запонки – три приличные жемчужины – производят переворот в ее отношении к нахалу, осмелившемуся сказать «милашка». Правильное произношение Эрлиха с легким акцентом и длинный нос наталкивают маленькую прозорливицу на почти правильный вывод.
– Твой друг из Эльзаса? – спрашивает Жужу. – Скажи ему, чтобы не приставал. Скажет тоже: «мила-а-ашка».
– Ладно, – говорю я. – Все в порядке, Жужу. Телефон работает?
– А что ему сделается.
– Я позвоню, а вы поболтайте.
Я уверен, что Эрлих теперь прилипнет к Жужу и постарается вытянуть у нее все, вплоть до адреса. Разумеется, любые подробности он мог бы узнать и завтра, через людей из Булонского леса, но ставлю сто франков против окурка, что штурмбаннфюреру не терпится поразнюхать, в каких отношениях состоят Огюст Птижан и гардеробщица из «Одеона».
Покачиваясь от слабости, я добираюсь до столика в дальнем углу и плюхаюсь на золоченый диванчик. Телефон стар, как Ной. Обколупленный черный ящичек, украшенный фигурной вилкой и покоящийся на четырех птичьих лапках. В допотопной, давно не чищенной трубке долго шуршит и потрескивает, и голос телефонистки едва пробивается сквозь помехи.
– Монпарнас! Говорите номер!
– Алло, мадемуазель, – сиплю я, прикрыв микрофон ладонью и искоса присматривая за Эрлихом, интимно беседующим с Жужу. – Норд – две тройки – семь – пять.
Только бы не переспрашивала!… Нет, обошлось.
– Соединяю.
Париж – столица мира, но так и не удосужился перейти на автоматическую связь. В другое время мне это не мешало, но сейчас я проклинаю телефонную компанию и советников мэрий, не исхлопотавших в свое время кредитов на реконструкцию.
– Кафе «Лампион».
Ну, господи, благослови!
Отгородившись ладонью от всего мира и от Эрлиха в особенности, я торопливо говорю:
– Кафе? Алло! Соблаговолите позвать мсье Маршана. Да. Мсье Анри Маршал, художник. Он должен быть в синем зале…
Из трех залов «Лампиона» – синего, зеленого и красного – Люк почему-то предпочитает первый… Пока швейцар пускается на поиски Анри, буркнув в трубку: «Подождите!», я продолжаю наблюдать за Эрлихом и гадаю, услышал ли он хоть слово. Нет, пожалуй. Жужу смеется так, что у Эрлиха должно заложить уши.
Голос Люка возникает в трубке, стряхивая скалу с души Птижана. Вполне свободно могло быть так, что Люк раз и навсегда переменил адреса. Волна благодарности к другу, верящему в меня до конца, захлестывает мое слабое сердце и лишает дара речи.
– Эй, – слышу я. – И долго будем молчать?…
Долгий шуршащий звук – очевидно, Люк дует в трубку.
– Да говорите же!
– Анри?
– Кто это?
– Анри, это я. У меня всего пара минут…
– Огюст?!
Только бы не бросил трубку!… Будь Огюст Птижан на месте Анри Маршана, он так бы и сделал и к тому же немедля навострил бы лыжи из кафе. Судите сами: звонит человек, пропавший среди бела дня и, судя по всему, арестованный гестапо, и сообщает, что у него «пара минут»…
– Ну я слушаю, старина!
Словно гора с плеч!…
– Не повторяй ни слова из того, что услышишь, – говорю я, мысленно умоляя Жужу смеяться погромче. – Когда кончим разговор, немедленно уйди из кафе. Переберись на аварийную квартиру. Думаю, что гестапо сейчас переворачивает вверх дном Центральную, отыскивая нас с тобой на линии. Понял?
– Да. Это все?
– Нет. Слушай, Анри. Свяжись с Центром и добейся, чтобы третьего августа Би-Би-Си в первой утренней передаче на Францию вставило фразу: «Лондонский туман сгустился над Кардиффом». Запомнил?
– Да. Слушай, а ты-то где?
– «Лондонский туман сгустился над Кардиффом», – повторяю я настойчиво. – Если фразы не будет, считай, что я окончательно засветился. Двадцать пятого возьми портфель. Понял, Анри?
Краем глаза я вижу, как Эрлих обходит Жужу и делает шаг к столику. Между нами метров десять расстояния, и я еще могу успеть сказать несколько фраз.
– Немедленно уходи!
– Откуда ты говоришь?
– Я арестован, – отвечаю я и слышу короткое «о!» Люка. – Если до пятнадцатого не дам знать о себе, работай один. «Почтовый ящик» – резервный.
Я кладу трубку на вилку и пальцем, сдергиваю вниз тугой узел галстука… Кажется, удалось… Уложился ли я в две минуты?… Эрлих, вероятно, поручил своим людям взять разговоры под контроль. Весь фокус в том, успеют ли слухачи за сто двадцать секунд не только установить, с кем соединен «Одеон», но и натравить гестаповцев на кафе. Вряд ли. За две минуты при самой отличной мобильности, при самых быстрых авто и самых тренированных агентах не осуществить операцию по блокированию «Лампиона» и захвату лица, чьи приметы неизвестны. Люк должен успеть уйти!…
– Все как надо? – говорит Эрлих.
Я киваю и нашариваю спички. Где-то у меня должна быть крепкая «Житан», полученная от Жужу.
– Ваши, конечно, слушали разговор? – говорю я, прикуривая.
– Не будьте ребенком, Огюст. Нет, конечно. Он одинаково опасен для нас обоих. Неужели вы не догадываетесь?
– Ладно, – говорю я и с силой затягиваюсь. – Поехали?
– Пора. Забавная штучка эта Жужу.
– Дайте ей десять франков. От меня.
– Вот, возьмите.
Эрлих протягивает мне две бумажки, которые я, выходя, сую в передник разочарованной Жужу.
– Уже? – спрашивает она.
– Я же сказал: пишу поэму. Ни грамма свободного времени, Жужу!
В «мерседесе» Эрлих сует мне синюю пачку «Житан».
– Цените. Купил для вас у этой шлюхи.
– Она не шлюха.
– Толкуйте, Огюст!… Впрочем, бог с ней. Значит, третьего августа?
– «Лондонский туман сгустился над Кардиффом», – медленно говорю я и поворачиваюсь к Эрлиху. – Довольны?
Штурмбаннфюрер возится с зажиганием.
– Нормальная сделка, – говорит он минуту спустя, когда мотор наконец заводится.
«Нормальная сделка». Как для кого. Вжавшись в подушку сиденья, я размышляю об этом… «Да нет, – успокаиваю я себя. – Все было логично, Огюст. Четверо суток ты держался – наркотик, подвал, задушевная исповедь в день покушения на Гитлера, все-то ты прошел и не заговорил. У Эрлиха, пожалуй, нет оснований не верить тебе. Хотя бы на пятьдесят процентов. Когда ты попросился наверх и, представ пред ним, предложил разговор с глазу на глаз, он не был удивлен. Он ждал такого разговора, верил, что он будет. По его логике почва была удобрена, и Огюст Птижан обязан был воспользоваться соломинкой для спасения жизни».